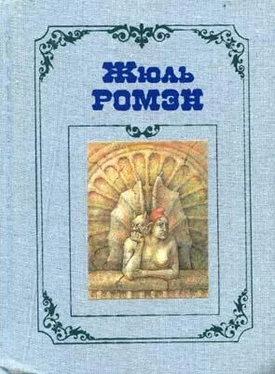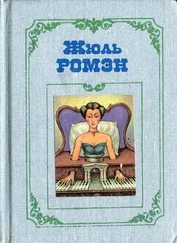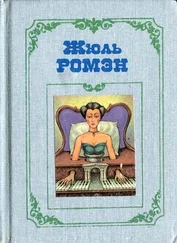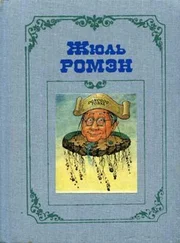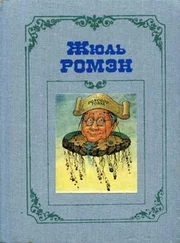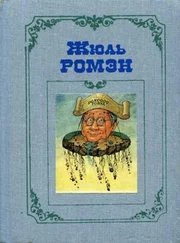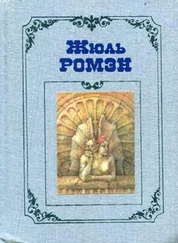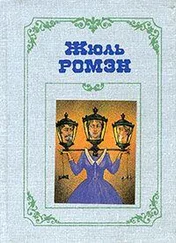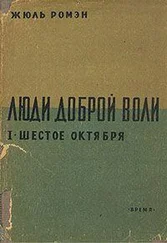— Путем любезнейшего из принуждений вы меня заставили покинуть ложе Невы.
— Cum superatis ingentibus periculis in dictum quadrivium irruerem, horrido cuidam seniculo occurri, qui me insanis versibus contudit. [7] Когда, преодолев величайшие опасности, я устремился на названный перекресток, я встретился с неким отвратительным старикашкой, который меня замучил ужасными стихами.
— He без преодоления величайших опасностей мы достигаем жизненного перепутья и встречаемся со старостью, чтобы, наконец, стать жертвой стихий.
Четверо делегатов с умилением кивнули головой и дали понять, что они высоко ценят мудрость этого русского.
— Attamen, — простонал Бенэн, — tanta amentia captus sum, ut pagum istum peterem. [8] И все-таки мной овладело такое безумие, что я отправился в эту деревню.
— Я рад, господа, что счастливое вдохновение привело меня в этот великолепный город.
— Те tandem reperio, marcidum lenonemqui meam, ut ita dicam, bobinam toties ir risisti! [9] Наконец-то я нашел тебя, дряхлый сводник, столько раз издевавшийся над моей, так сказать, башкой!
— И вот я встречаю вас, мужественный посредник, столько раз озарявший весельем мрачный клубок моих дней.
— Merdam! Merdam! [10] Помет! Помет!
— в отчаянии завопил Бенэн.
— Привет! Привет! — возгласил переводчик.
— Utinam aves super caput tuum cacent! [11] Да уронят птицы на твою голову!
— Да ниспошлют птицы небесные свое благословение на вашу голову!
Бенэн умолк. Брудье сделал знак. И оркестр грянул русский гимн, который упорно сопротивлялся.
Вечером того же дня, в девять часов, из Невера выкатило два велосипеда. Бенэн и Брудье ехали бок о бок. Так как светила луна, то перед машинами стлались две тени, очень длинные, очень узкие, словно два уха одного осла.
— Ты чувствуешь ветерок? — говорил Бенэн.
— Чувствую ли! — отвечал Брудье. — Он у меня проходит по волосам, легонько, как редкий гребень.
— Ты снял фуражку?
— Да. Так приятнее.
— Это верно. Кажется, будто подставил голову под воздушный кран.
— Слышишь сверчков слева?
— Не слышу, нет.
— Да как же! Высоко в ухе. Похоже на звук, какой иногда бывает у одиночества… звук крошечный пилы.
— Да, да! Поймал! Я, должно быть, и раньше слышал! Какой забавный звук! На такой высоте!
— Посмотри, как наши тени входят в этот лунный просвет, а теперь ныряют головой в тень деревьев.
— Там, должно быть, другая дорога. Видно, как движется фонарь. Это повозка.
— Не думаю, чтобы другая дорога. Это наша дорога поворачивает, и ты видишь ее за поворотом. Повозка едет в том же направлении, что и мы. Мы ее сейчас нагоним.
— Старик! Я счастлив! Все восхитительно! И мы скользим сквозь все на послушных и бесшумных машинах. Я люблю эти машины. Они не просто нас везут. В них продолжается наше тело и расцветает наша сила. Бесшумность их хода! Верное безмолвие! Безмолвие, которое ничего не оскорбит.
— Я тоже счастлив. Я чувствую, что мы могущественны. Где наши пределы? Неизвестно. Но во всяком случае очень далеко. Ни одного грядущего мгновения я не боюсь. Над самым тяжелым событием я пронесусь, как над этим камешком. Мои шины его не почувствуют… Чуть заметный толчок… Я никогда еще не ощущал так ясно, как сегодня, округлость земли. Ты понимаешь? Земля вся круглая, вся свежая, и мы с тобой кружим вокруг нее по ровной дороге, меж деревьев… Вся земля, как сад ночью, где расхаживают два мудреца. Все другое где-нибудь кончается поневоле. Но у шара нет конца. Горизонт перед тобой неисчерпаем. Чувствуешь ты округлость земли?
— Я смотрю, докуда достигает красный свет фонарей.
— Я вспоминаю одного торговца картинами, который мне однажды признался: «Двадцать процентов на Рембрандте, такими делами я не интересуюсь». Вспоминаю одного театрального критика, который как-то сказал: «Играя Гамлета, Сара Бернар его возвеличила». Вспоминаю одного викария от святого Людовика Антенского, который заявлял с кафедры: «В вечной муке искупает Ренан кощунственную дерзость своей мысли». И сейчас мне кажется, что нет больше ни торгашей, ни лицедеев, ни святош. Земля чиста, как выкупанная собака.
Но вот для них движение перестало быть незаметным. Им пришлось налечь на педали. Прямой подъем образовывал просвет среди черных деревьев.
Листья шевелились; но приятели уже не рассекали воздух. Ветер двигался в том же направлении, что и они, тем же шагом, и был готов легонько их подталкивать, если бы они начали отставать.
Подъем был крутой. Педаль всякий раз оказывала такое же сопротивление, как ступень лестницы. Все же она подавалась, и колеса подвигались толчками. Машина поворачивалась то в одну сторону, то в другую, словно коза, борющаяся с собакой.
Читать дальше