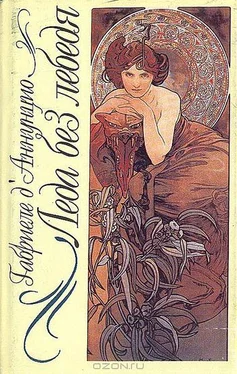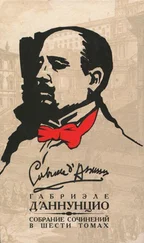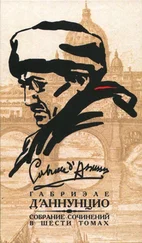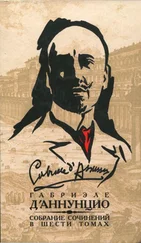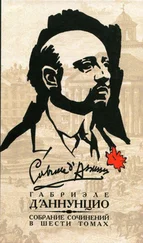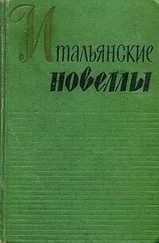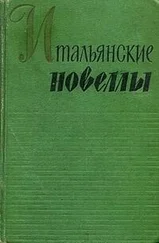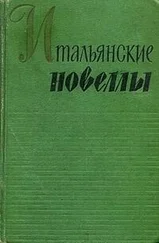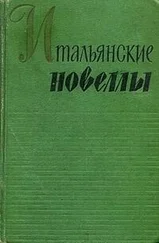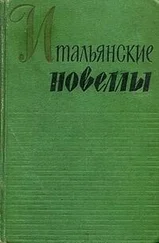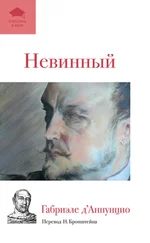Рефлектирующий, эгоистичный, обуреваемый плотскими страстями герой осознал недозволенность убийства, бесчеловечность, неправедность насилия над беззащитными. И он громко спрашивает присутствующих на отпевании: «Знаете ли, кто убил этого невинного?» — вызывая ассоциации с евангельской притчей о младенцах.
Снова Д’Аннунцио разрабатывает великую тему Достоевского. Концовка «Невинного» варьирует финал «Преступления и наказания», когда Раскольникова в ссылке озаряет моральное просветление. Но для героя Д’Аннунцио ни покаяние перед судом, ни покаяние перед Богом ничего не дадут, он отвергает суд людской и небесный, он сам осудил и свое преступное деяние, и самого себя. Возвышенная моральная идея побеждает догму «вседозволенности», столь привлекательную для «избранных душ». [2] Режиссер Лукино Висконти в своем фильме «Невинный» убрал мотив раскаяния героя. Туллио в фильме кончает жизнь самоубийством, но не от мук совести, а потому, что его возненавидела жена, угадавшая в муже убийцу. Исчез из фильма и толстовец Федерико.
Опыт Достоевского и Толстого открывал для Д’Аннунцио плодотворные творческие перспективы. Но два последующих романа конца века — «Триумф смерти» (1894) и «Девы скал» (1895) — показали, что иное начало возобладало в авторе и увело его от «русских ориентиров».
И не только от русских. В 1893 г. появились три статьи Д’Аннунцио «Мораль Эмиля Золя». Со своей способностью остро ощущать зарождающиеся идейные и художественные тенденции, автор засвидетельствовал «смерть» натурализма и позитивизма, кризис рационалистических рецептов прогресса. Он писал:
«Опыт закончен. Наука неспособна вновь заселить опустевшее небо, вернуть счастье душам, которых она лишила наивного мира. Мы больше не хотим правды. Дайте нам мечту. Мы обретем отдых только под сенью Непознанного».
Мечта, Идеал, Красота, Тайна, торжество индивидуализма, противопоставляемые материалистическому познанию, — таковы новые мифы, в которые в Италии облекается идеология этой эпохи, в парадоксальной форме возвещаемая декадентством. Эти риторические постулаты рождались в культуре конца прошлого века из яростного отрицания нищей, заурядной официальной Италии и ее парламентской системы, разъеденной коррупцией. Тем ослепительнее выглядели мечты об иной Италии, об ее античных традициях, о величии и престиже латинской расы, мечты, облаченные в одежды даннунцианского эстетизма. Неустанный экспериментальный поиск приводит Д’Аннунцио к модели ницшеанского сверхчеловека, в котором он увидел воплощение собственного витализма — идеи «дионисийской», плотской жизненной силы, — и автор выступает здесь как глашатай и проводник этих идеологических позиций.
Роман «Девы скал», не внося ничего существенно нового в закрепившуюся структуру даннунцианского романа, уже более детально представляет образ героя, проповедующего пышные постулаты «сверхчеловеческого» мессианства латинской расы и зовущего к энергическим действиям, хотя сам молодой аристократ духа совершенно бездеятелен и даже не в состоянии помочь своим кузинам — «девам скал» — выйти из круга одиночества.
Д’Аннунцио создает здесь шедевр описания бьющих фонтанов старого замка. Это, пожалуй, вершина художественного изображения языковыми средствами звуков, форм, движения.
Несколько особняком стоит в творчестве Д’Аннунцио роман «Пламя» (1900), в котором автор с эпатирующей откровенностью изобразил свою связь с великой актрисой Элеонорой Дузе — ей он был обязан очень многим в своей карьере драматурга. Разрыв между ними и публикация романа стали международным светским скандалом, на что Д’Аннунцио, впрочем, охотно шел, создавая свой «имидж». Однако, несмотря на скандальную славу романа, великая трагическая актриса Форнарина (под этим именем выведена Дузе), с ее талантом, гордостью, упоением своим трудом, чувством любви, — пожалуй, единственный обаятельный женский образ во всей прозе Д’Аннунцио. Перед нею меркнет обаяние главного героя — поэта и трибуна Стелио, в котором автор изобразил себя, присвоив себе атрибуты и любовника, и сверхчеловека. Его пышные речи бледнеют в сравнении с простым рассказом Форнарины о ее нищем детстве в повозке бродячего театра. Это — подлинная правда жизни, которая — в сочетании с великолепными описаниями художественных памятников Венеции обеспечила успех романа и доныне спасает его от забвения.
Последний из романов Д’Аннунцио, написанный незадолго до первой мировой войны, «Быть может — да, быть может — нет» (1910), наглядно свидетельствует о том, как комплекс идей расового превосходства и завоевательных притязаний губил то живое и талантливое, что содержалось в художественном мастерстве писателя. Главный герой этого романа — летчик Паоло, воплощающий все тот же идеал «сверхчеловека латинской расы». Д’Аннунцио восхищается работами в авиационном ангаре, картинно описывает «красоту» торпедной атаки подводной лодки. Воспевание техники, скорости, риска роднит эстета-декадента Д’Аннунцио с футуристом Маринетти — здесь они, пожалуй, впервые «выходят на одну прямую».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу