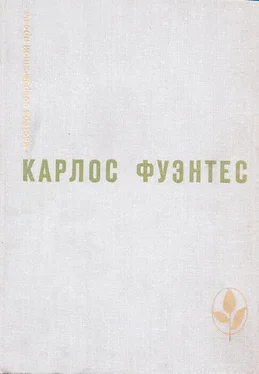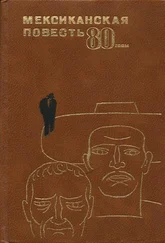Сырость изъела балки высокого потолка ризницы, однако входящего охватывало ощущение тепла и пышности. У одной из стен стоял большой деревянный, отделанный изразцами комод. В нем хранилось облачение. На комоде лежала небрежно брошенная риза с желтой каймой. Противоположную стену украшал роскошный резной алтарь с красноватыми гирляндами из лавровых листьев, орехов и пухленьких ангелочков. Золотые колонны его вздымались до потолка, где узоры резьбы продолжались все теми же рельефно выписанными ветками лавра и оливы, обвитыми лентой; по всем четырем стенам шел греческий орнамент. С пышностью этих двух узких стен ризницы контрастировала простота и ослепительная белизна стены более длинной, прорезанной только маленьким зарешеченным оконцем, выходившим на серую улочку. Падре Обрегон уселся в высокое деревянное кресло и жестом предложил Хайме пододвинуть другое, поменьше, плетенное из соломы.
— Почему ты не приходил ко мне? — спросил священник, поглаживая волнистые русые волосы мальчика.
— Не было надобности, — сказал Хайме негромко, но твердо. — Теперь я пришел, потому что меня заставили.
— Заставили? Заставить тебя никто не может.
— Да, заставили насильно. Мне не в чем исповедоваться.
Падре Обрегон улыбнулся и забарабанил пальцами по красивому резному подлокотнику.
— Для тебя я всего лишь человек, не правда ли?
— Я тоже человек, — произнес, еле разжимая губы, угловатый подросток.
— Все мы люди, господь наш тоже был человеком и страдал во плоти, как человек.
— Поэтому я могу говорить с ним. — вызывающе глядя на священника, сказал Хайме. — Я могу объясниться с ним и просить у него прощения для себя и для всех, не обращаясь к…
Обрегон ударил ладонью по подлокотнику и встал. Заходящее солнце позолотило выпуклости алтарной резьбы и лицо священника.
— Никто не вправо так говорить. Чтобы приблизиться к богу, всегда нужны будут двое. Один человек но может этого сделать. Ты понял меня, ты ведь уже взрослый? Один не может.
Неужели он всего лишь ребенок? Поймет ли? Приподнятое решительное лицо Хайме, с молчаливым вызовом и надменностью обращенное к священнику, казалось, говорило о понимании. Но не в этом увидел Обрегон взрослого человека, а в той тени сомнения, что промелькнула в глазах мальчика. Ибо Хайме, когда падре сказал: «Один не может», вспомнились слова горняка Эсекиеля Суно. Рука священника опять прикоснулась к его волосам, озаренным самым ярким лучом солнца в минуту, когда оно ближе всего к человеку, — солнца умирающего.
— Как бы тебе это объяснить? Я хочу, чтобы ты понял.
Я не хочу тебя принуждать к чему бы то ни было… Ты когда-нибудь молился за других? — В голосе Обрегона появился металлический оттенок, и рука его тяжело легла на плечо Хайме. — Или ты только бросал господу вызов, как мне вот сейчас? Только оскорблял его своей гордыней?
— Почему — гордыней? — тихо спросил мальчик. Падре начал прохаживаться по ризнице, скрестив руки на груди, обдумывая ответ. Хайме предвосхитил его вопросом: — Разве это гордыня, если я думаю, что должен исполнять заветы Христа, как исполнял их он сам?
Лицо его зарумянилось. Обрегон, заметив это, сказал с упреком:
— Ты думаешь, что можешь равнять себя с Иисусом Христом!
— Я думаю, что могу подражать ему.
— Какими силами избавить тебя от этого недуга!
— Не кричите, пожалуйста.
— Я слушаю тебя, сын мой.
Понизив голос, падре Обрегон впервые почувствовал, покоряясь спокойному тону мальчика, большую волнующую нежность. Старая сырая ризница со всей своей пышностью предстала перед ним в эту секунду молчаливого размышления как некие подмостки театра. Теперь это было не только подсобное помещение, хранилище риз. Добрый падре Обрегон, такой опытный пастырь, некогда отлично учившийся в семинарии, постепенно утратил под влиянием застойной, провинциальной жизни привычку к диалогу. Поэтому, прежде чем продолжить беседу, он подумал, что, возможно, у него не хватит внутренней силы найти нужные слова. У этого мальчика, вооруженного дерзостью, была по крайней мере надежная опора в словах, в которые он верил. Как он ответит, он, пастырь? Найдутся ли у него настоящие, весомые слова — не те избитые формулы, которыми довольствовались обычные исповедующиеся, все эти крестьяне и богомолки, просившие у него совета? По тому, как глубоко это его задело, он почувствовал значительность брошенного ему вызова. А затем жалость к самому себе — и тревожащую, неодолимую нежность к мальчику. Это чувство и сказалось в его словах:
Читать дальше