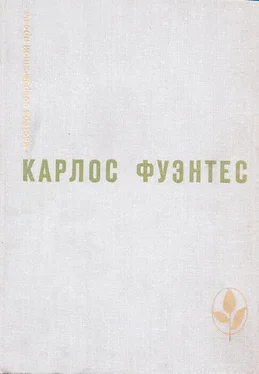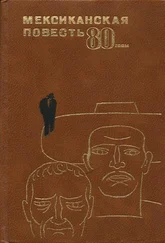Пожалуй, более великий, чем вифлеемская ночь. Ибо в этот день обретает смысл все, предвещанное рождеством. Спаситель умер за всех. И, воскреснув из мертвых, всем обещал спасение от скорби и одиночества. Всем сказал, что жить ради братьев своих — как он принял смерть — значит обеспечить себе жизнь вечную в сообществе людей. И правда, кто сумеет возлюбить своих братьев, всегда будет жить в них, и в их детях, и в детях их детей. Из-за того что это было некогда сказано, сегодня Асунсьон Балькарсель шла по спускающейся вниз улице к храму Иезуитов. Сегодня, как всегда, она вела Хайме за руку. Она не заметила, что он вырос. Ради великого праздника шел за сестрой и своим сыном коммерсант Родольфо Себальос в том же черном костюме, что накануне, шел своей обычной тяжелой походкой, скрестив руки на груди.
Ради этого праздника хор мальчиков пел «Аллилуйя» Генделя, когда они сели на места, отведенные в храме Иезуитов для уважаемых семейств. Ради этого была служба с пеньем, возглашение хвалы, благословение пасхальной свечи и под конец ликующие клики «Exsultet !». [42] «Да возрадуется!» (лат.)
Хайме все время стоял на коленях. Костюм был ему тесен: это был синий праздничный костюм, и теперь, когда Хайме опускался на колени, швы на брюках лопнули. Тетка читала молитвенник. Родольфо стоял с полуоткрытым ртом, устремив глаза на причудливые гирлянды алтаря. Мальчик не сводил глаз с большой пасхальной свечи. Он удивлялся, что, каждый год присутствуя на службе в Великую субботу, никогда не обращал внимания на свечу, занимавшую центральное место в этом спектакле. А ведь целью всей церемонии было возжечь этот символ ликования: мальчик с радостью осознал это и уже не отрывал взгляда от свечи. Он видел, как отпадали застывшие струйки воска, как медленно, но неотвратимо становилась все короче высокая белая колонна. Радость свечения сжигала гордую свечу; светя другим, она приносила себя в жертву. Рядом с Хайме Асунсьон повторяла вслух: «… и в воскресение во плоти, аминь». Они поднялись и, прежде чем отвернуться от Пресвятого, перекрестились. Шли медленно, стиснутые толпой: храм был битком набит, и Асунсьон плотно прижалась к Хайме. Выходили долго, в храме слышались колокольчики служек. Пробиться вперед было невозможно. Хайме начинал задыхаться. Тетка все крепче прижималась к нему, прямо прилипла, как пластырь, и мальчик спиной чувствовал рельеф ее торса, который как бы обнимал его без рук. Изгибы тела Асунсьон, ее груди, ее мягкий живот прикосновением своим вызывали у племянника озноб. Он обернулся — Асунсьон опустила глаза. И вот наконец шумный церковный двор, крики лоточников и мальчишек, милые запахи провинциального города. Во дворе плясали под звуки свирелей, колыхались перья на головах индейцев.
Дома Асунсьон сказала, что хочет поиграть. Сорок дней поста, в течение которых тишина в городе была еще глубже, чем обычно, закончились. Балькарсель был в Мехико, поехал по делам, отсроченным из-за пасхальных каникул. Тетка вспомнила, что дон Пепе Себальос, бывало, приглашал на пасхальные воскресенья камерный оркестр и дети после обеда устраивали прелестные импровизированные балы. Родольфо и Хайме пошли за ней в спальню с красными бархатными портьерами — там стояло небольшое пианино с инкрустацией в пуэбланском стиле, подаренное Асунсьон, когда ей исполнилось пятнадцать лет. Кое-где сбиваясь, тетка заиграла «Fur Elise». [43] «Для Элизы» (нем.) — детская пьеса Бетховена,
Родольфо сидел в плетеном кресле. Голова его, опущенная, понурая, казалась головкой булавки, воткнутой в тучное, дряблое тело. В окно пробивались последние лучи дня. Хайме сел у окна. На фоне закатного неба четко рисовался его точеный профиль и золотились светлые волосы.
— Это была любимая вещь мамы, — сказала Асунсьон, повторяя начальные такты пьесы.
Родольфо в кресле утвердительно кивнул.
— Это пианино мне подарил папа. Помнишь?
— Да, когда тебе исполнилось пятнадцать.
— А ведь у нас был и рояль, правда? Что с ним стало? Он стоял в гостиной. Подумай, я о нем совсем забыла.
Родольфо шумно высморкался.
— Да… Она его продала, — сказал он.
— Если бы мы не вернулись из Англии, она бы все в доме продала. Удивительно, что еще что-то осталось.
— Да ведь она… она не умела играть, а тогда как раз вошел в моду патефон…
Асунсьон сняла руки с холодных клавиш и украдкой кивнула в сторону Хайме. Разговор этот медленно входил в сознание мальчика. Ухватясь рукою за штору, он устало, как гаснущее солнце, повис на ней. Она, она… Слово засело у него в мозгу, не вызывая мыслей. С удивлением думал он, что в этот день у него столько впечатлений, которые он не может осмыслить. Он решил их сберечь, чтобы обдумать когда-нибудь в другой раз… «Когда-нибудь я все пойму», — сказал себе мальчик, выпустил штору и бегло припомнил только что слышанный разговор, прижатое к нему туловище тетки, церемонию возжения свечи и всю службу.
Читать дальше