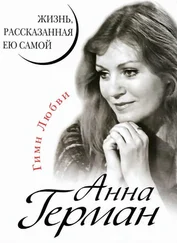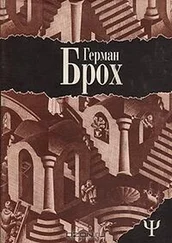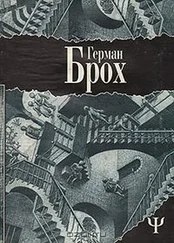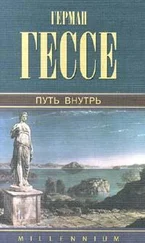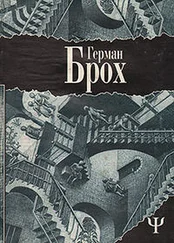Это «физическое событие», как она с полным основанием могла бы назвать шестинедельный отпуск мужа, представало теперь в ее душе неким сужением ее жизненного потока, стеснением ее «я»; как будто бы ее «я» насильственно втиснули на это время в тесные границы телесного, и это было как бурный напор реки, протекающей сквозь узкое ущелье. Если прежде, когда она об этом думала, у нее всегда возникало чувство, что ее «я» не вполне отграничено кожей, но способно просачиваться сквозь проницаемую оболочку, например в шелковое белье, носимое ею на теле; если даже ее платья, как ей казалось, хранили в себе дыхание се «я» (отсюда такая большая уверенность в вопросах моды); более того, если прежде ей казалось, что ее «я» как бы вообще существовало отдельно от ее тела, скорее обволакивало его, чем жило в нем, и мыслительный процесс вершился не в голове, а вне ее, так сказать, сверху, с наблюдательной вышки, откуда даже собственная ее телесность, как бы важна она ни была, представлялась мелкой и незначительной, — то во время этого «физического события», растянувшегося на шесть недель, во время этого бурного протискивания через ущелье, от прежней распространенности ее «я» сохранилось лишь некое мерцание, тоненькая радужная пленочка над бушующими водами, и это было, в известной мере, последнее прибежище ее души. Теперь, когда долина вновь расширилась и путы спали, вместе с возможностью вздохнуть и расправить плечи одновременно пришло и желание позабыть бушующую теснину. Забвение это происходило не сразу, а по частям: все индивидуальное исчезало сравнительно быстро, привычки Генриха, его голос, его слова, его походка уже бесследно канули в пучину забвения, однако общее, родовое, не уходило. Прибегнем к не совсем приличному сравнению: сначала исчезло лицо, затем подвижные части тела — руки и ноги, но неподвижное туловище, торс, от грудной клетки до обрубленных бедер, — этот в высшей степени непристойный образ мужчины все еще сохранялся в глубинах ее памяти, подобно останкам мраморного бога, который сохраняется в земле пли омывается прибрежными волнами Тирренского моря. И чем дальше заходило забвение, забвение по частям — что и было в нем самое ужасное, — чем сильнее укорачивался торс бога, обрубок, тем все заметнее и резче выделялась непристойная его часть, о которую спотыкалось забвение, продвигаясь все медленнее, все более мелкими шажками. Это только сравнение, и, как всякое сравнение, оно огрубляет истинный процесс, который был далеко не так отчетлив и представляет собой лишь смутное перетекание друг в друга неясных образов, полуприпомнившихся воспоминаний, полудодуманных мыслей, полуосознанных желаний — безбрежный поток, над которым стелется серебристая дымка тумана, серебристое дыхание, поднимающееся до облаков и до черных звезд. Ибо торс, хранившийся в речном иле, не был уже и торсом-то был просто камень, отшлифованный рекою, валун, отдельный предмет мебели, просто вещь из домашнего обихода или комок навоза, закинутый в поток бытия; просто сгусток вещества, закинутый в волны; волна набегала на волну, день превращался в ночь, а ночь в день, и то, что эти дни перекидывали друг другу, было давно уже неразличимо, неразличимее, чем вереница снов, но иногда в этом скрывалось что-то, напоминавшее о тайном знании девчонки — школьницы, и одновременно пробуждавшее тайное желание бежать от этих детских знаний в мир индивидуального, вновь вырвать из забвения лицо Генриха. Но то было всего лишь желание, и осуществление его допускало по крайней мере столько же возможностей, сколько их оказывается перед реставратором греческого торса, найденного в земле, из чего следует, что желание это было неосуществимо.
На первый-взгляд может показаться не столь уж и важным, превалировало ли в памяти Ханны общее или индивидуальное. Но в ту эпоху, когда общее так заметно завоевало первенство, когда гуманные человеческие связи, протянувшиеся непосредственно от индивида к индивиду, были разорваны и на место их пришли коллективные представления, порожденные не виданной доселе унификацией, когда настало полное жестокости время, лишенное всякой индивидуальности, что соответствует разве что периоду раннего детства или глубокой старости, тогда и отдельная память не в состоянии избежать общих закономерностей, и все возраставшее отчуждение незначительной женщины, даже если она красива и удовлетворяет потребности партнера по постели, не может быть объяснено наступившим для нее, к сожалению, периодом сексуальной неудовлетворенности, но является частью целого, и, как во всякой единичной судьбе, здесь отражается господство метафизических законов, правящих миром; если угодно, здесь перед нами «физическое событие», метафизичное в своем трагизме, — и этот трагизм есть отчуждение человеческого «я».
Читать дальше
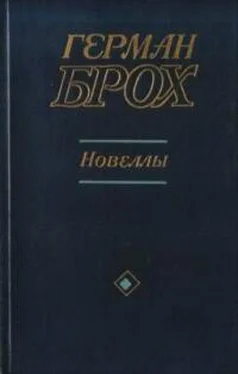
![Леонид Репин - Люди и формулы [Новеллы об ученых]](/books/32535/leonid-repin-lyudi-i-formuly-novelly-ob-uchenyh-thumb.webp)