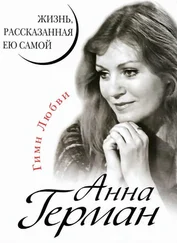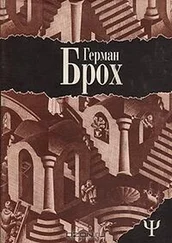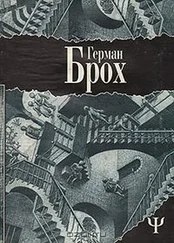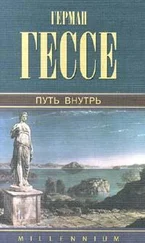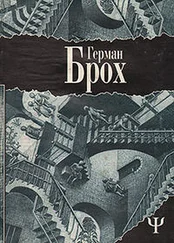— Здесь все лежит на своих старых местах, Генрих.
— О господи, все па своих старых местах!
Она вышла из ванной, надо было отдать распоряжения по хозяйству, что-то заменить, что-то переменить, все это она делала устало, через силу.
Срезала розы в саду для обеденного стола.
Через некоторое время тихонько подошла к двери, прислушалась к плеску воды. II сразу же ощутила в затылке наплывающую головную боль. Тяжело опираясь на перила, спустилась по лестнице в холл.
Наконец из школы вернулся мальчик. Она взяла его за руку, подвела к ванной, громко спросила:
— К тебе уже можно?
— Конечно, — прозвучал несколько удивленный ответ.
Приоткрыв дверь, Ханна заглянула в щелку. Генрих стоял, полуодетый, перед зеркалом; тогда она сунула розу в упорно не желавший раскрываться детский кулачок, втолкнула мальчика в ванную, а сама убежала.
В столовой она ожидала их обоих, и когда они вошли, невольно отвела взгляд. До чего же они похожи, те же широко расставленные глаза, те же волосы, каштановые у корня, только Генрих был подстрижен теперь совсем коротко. Казалось, от нее ребенок не унаследовал решительно ничего. Какой ужасный механизм, о, как это было ужасно — так влюбиться когда-то! В этот момент вся се жизнь показалась ей прожитой в состоянии невменяемости, показалась бесконечным насилием над ее личностью, которое уже никогда не удастся остановить.
— Снова дома, — сказал Генрих, усевшись на свое прежнее место. Возможно, он и сам счел свое замечание несколько глуповатым, он как-то неуверенно улыбался. Мальчик наблюдал за ним пристально и отчужденно.
Вот он сидит за столом-глава семейства и нарушитель спокойствия.
Служанка тоже не сводила с хозяина глаз, в них сквозили робкое изумление и зависть, и когда она вошла в очередной раз, Ханна нарочито громко сказала:
— Позвонить Рёдерам… договориться с ними на вечер?
Адвокат Рёдер был сослуживцем Вендлинга; ему было за пятьдесят, и он был освобожден от призыва.
Английские часы в футляре красного дерева начали глухо отбивать удары.
Ханна чуть коснулась мизинцем руки мужа, будто извиняясь за самую мысль провести вечер с Рёдерами и в то же время напоминая: прикосновений пока следует избегать.
Генрих:
— Конечно, нужно известить Рёдеров… я сейчас позвоню.
Ханна:
— А после обеда мы пойдем на прогулку, вместе с папой.
— Непременно, — отозвался Генрих.
— Какое счастье, что папа снова с нами!
— Да, — сказал мальчик после некоторого молчания.
— Ты непременно должен посмотреть его школьные тетрадки, Генрих… он уже совсем хорошо пишет и считает. Свои письма к тебе он писал совершенно самостоятельно.
— Это были мировые письма, Вальтер.
— Это были только открытки, — несмело уточнил мальчик.
То, что они взяли на прогулку сына и вели его между собою, чтобы искать пути друг к другу, над его каштановой головенкой, казалось обоим каким-то святотатством. Конечно, правильнее было бы честно сказать: мы не начнем целоваться, пока наше желание нс станет невыносимым, но то, что их мучило, даже и не было желанием, то было одно только невыносимое ожидание.
Они вошли в детскую, облицованную деревянными панелями, по которым бежал веселый разноцветный фриз с картинками. И Ханна своим вторым интеллектом, своим чуть сдвинутым сознанием, прояснившимся и обострившимся от чрезмерного ожидания и давящей головной боли, вдруг постигла, что вся эта лакированная мебель, вся эта белизна есть тоже святотатство, злоупотребление ребенком. К собственной его личности и к его потребностям это не имело ни малейшего отношения, тут был воздвигнут некий символ, символ ее белой груди и белого материнского молока, которым набухнет эта грудь после объятий, если они принесут плоды. Ханна прикоснулась ладонью к ноющему затылку. Промелькнувшая было мысль показалась ей очень далекой и неясной, но именно в ней, в этой мысли, таилась причина того, что она так не любила бывать в детской и охотнее звала сына к себе. Она сказала:
-. Вальтер, покажи папе свои новые игрушки!
Вальтер принес конструктор и ящик с оловянными солдатиками в серой походной форме. Солдатиков было двадцать три и одни офицер: преклонив колена и обнажив саблю, он призывал их броситься на врага. Ни один из троих не заметил, что на докторе Генрихе Вендлинге надета в точности такая же походная офицерская форма, и у каждого была своя причина этого не заметить: Вальтер не видел этого потому, что воспринимал отца как вторгшегося к ним навязчивого пришельца, Генрих — потому, что для него невозможно было отождествить героический жест этого оловянного солдатика с собственным отношением к войне, а Ханна — потому, что, к собственному ужасу, все время видела стоящего перед ней мужчину нагим и отрешенным от всего окружающего в своей наготе. Это была такая же отрешенность, в какой стояли теперь вокруг нее все предметы обстановки: нагие, не связанные с окружением, не связанные друг с другом, чуждые всему и вызывающие ощущение собственной чуждости.
Читать дальше
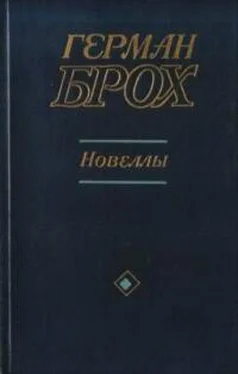
![Леонид Репин - Люди и формулы [Новеллы об ученых]](/books/32535/leonid-repin-lyudi-i-formuly-novelly-ob-uchenyh-thumb.webp)