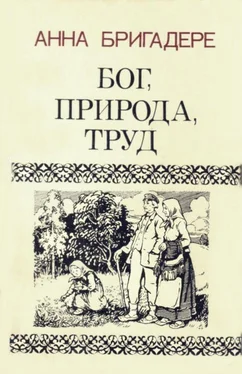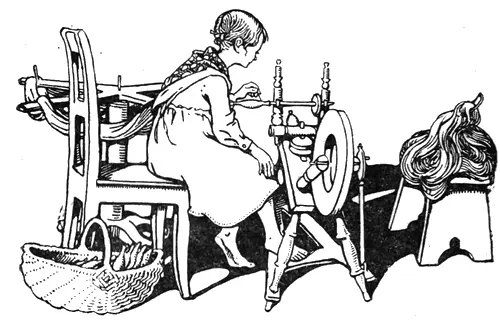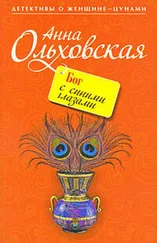Дел у Аннеле сейчас не меньше, чем у взрослых. Вот уже второе лето каждый третий день пасет она скот. А как пришла осень, снова заняла она свое старое место — наматывать нить на цевки. Были дела, которые и летней, и зимней порою выполняли дети: полоть, травы нащипать, листьев нарубить, вязать, шить, трепать и чесать шерсть. Работа была не в тягость. За каждое дело бралась горячо, но уж если не нравилось, то сидеть становилось невмоготу: все сидишь и сидишь, а глаза все сто раз сделали-переделали и забыли. Мысли жили не в лад с руками — сердились на них за то, что такие неповоротливые, непроворные. А то и вовсе забудут о них — улетят далеко-далеко, в неведомые страны. И тут же отец легонько — толк! «О чем задумалась, дочка? Так ли работать надо?» С быстротой молнии мысли возвращались к рукам, исправляли ошибку, но удар и обиду помнили долго. А дел переделать мыслям надо было видимо-невидимо: и новые земли сотворить, и населить их образами; мысли приходили и уходили и сладу с ними не было никакого. Что поделаешь, если уводят они ее совсем не туда, куда велено? Что поделаешь, если из-за них валится все из рук, если заставляют они забывать то, что для взрослых самое важное? Вот тогда-то часто доставалось ей, и довольно ощутимо: не думай, не мечтай! И если доставалось от матери, то обидно бывало до слез. Как может мама наказывать ее за то, в чем она не виновата? Мать тогда становилась далекой, чуть-чуть чужой. Она, верно, ничего не знала об Аннелиных мыслях. Нет, наверняка не знала. Ведь как часто случалось — выскочит у Аннеле неожиданно вопрос или возглас, взрослые и давай смеяться да еще приговаривают, чтоб впредь глупостей таких не говорила. Это ее отпугивало. И стала она тщательно скрывать свои мысли и игры от взрослых, стала понимать, что ее обижают, и как раз те, кто был ей дороже всех. Когда ее наказывали, она думала: взрослые наказывают потому, что им власть дана на это; провинилась ты или нет, надо все перетерпеть; и никогда не плакала, не просила прощения. За это слыла она упрямицей. Другие дети, мол, плачут, прощения просят, а она ни за что. Батрачки все уши Аннелиной матери прожужжали — и радости ей от этого ребенка не видать, и все-то она будет делать по-своему, и своенравна, не то, что другие.
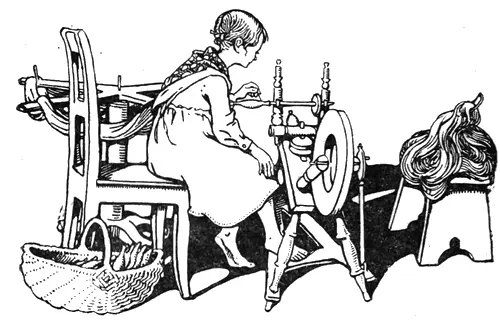
И тут мать принималась еще строже следить за тем, чтобы деревце Аннелиной жизни не пускало ненужных ростков, не раскинуло бы пышной кроны упрямства. Что-то было в Аннеле такое, что противилось миру взрослых, но сама она не считала себя упрямой, огорчалась, что не похожа на других детей и готова была по первому зову откликнуться, при первой же улыбке броситься маме на шею, прильнуть к ее груди.
Но приласкать ребенка, понаблюдать за ним, проникнуть в его мир — до того ли было рабочему человеку. Такое могли позволить себе только богачи, господа, что жили в роскошных дворцах и изнывали от безделья.
Невесело стало без доброй, отзывчивой Лизини, которая одна была отрадой для Аннеле. Даже затейница и насмешница Карлина стала молчаливой и неулыбчивой. Однажды, зайдя к бабушке в каморку, Аннеле наткнулась там на Карлину с красными, заплаканными глазами.
Впервые она видела плачущей веселую красивую батрачку.
— Отчего Карлина плачет? — с тревогой спросила Аннеле.
Не сразу ответила бабушка. Закрыла большую книгу песнопений, в которой каждая песня начиналась красивой продолговатой картинкой и буквой, сплетенной из причудливых завитушек, а остальные буквы были такие большие, что хоть рукой трогай — у нее одной была такая книга, — поставила ее на полку и только тогда сказала: «Карлина и Ингус порешили идти к пастору».
Почему Карлина должна идти к пастору с Ингусом, Аннеле не поняла, но что при этом полагалось плакать, ее не удивило — все, кто собирался идти к пастору, обычно плакали.
Однако Карлину отчего-то стало жаль. Жаль тех дней, когда Карлина была веселой, часто смеялась, хоть нередко и подшучивала над Аннеле.
Многого было жаль. Многое причиняло боль. Наступило черное время, которое так часто прорывалось сквозь бело-розовое.
— Что с тобой? — не раз спрашивали взрослые.
— Болит у тебя что? — спрашивала мама.
Могла разве объяснить Аннеле, что болит?
— Растешь. Так бывает: то там поболит, то тут. То одна косточка, то другая. Все оттого, что растешь.
И в Авотах было уже не так, как прежде. Что-то должно было измениться. Смутно сознавала Аннеле, что это «что-то» касается всех их и дяди Ансиса.
Читать дальше