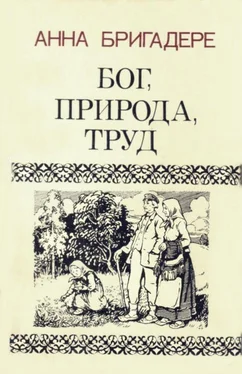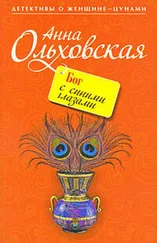Аннеле тоже растягивается на траве. Смирная-смирная, тихая-тихая. Хорошо здесь. Как будто бы это Калтыни. Остаться бы тут на весь день!
«Почему отец с мамой теперь молчат?» — недоумевает она, приглядываясь к родителям. Мать пристально смотрит куда-то. Аннеле начинает смотреть туда же, и взгляд ее уносится высоко-высоко, далеко-далеко. В синее-синее небо.
Но вот он возвращается и снова ищет отца и мать. Ах, как любо ей смотреть на них. Каждому б таких отца с матушкой. И нисколечко они не такие, как третьего дня и намедни. Глаза у отца что небо синее, а у матушки щеки и рот — ах, какие? Аннеле думает и никак не может припомнить цветок, который был бы столь же пригож, как мама. Так и хочется ей смотреть на обоих. Как на цветы, на синее небо, березы. Но отчего? Никогда не было так, как сегодня. Думала-думала Аннеле и придумала. Оттого, что сегодня воскресенье. Лес, цветы, синее небо — воскресенье, отец с матерью — воскресенье. И руки их — воскресенье. Они не трудятся, лежат себе спокойно. И ноги никуда не спешат. И не говорят ни отец, ни матушка Аннеле: «Отойди, не путайся под ногами! Не до тебя!»
У мамы руки вместе сложены, и такие они спокойные, а глаза все так же смотрят ввысь, в самое-самое небо. Губы шевелятся. С кем-то она разговаривает. Не с отцом, не с Аннеле. С кем же? А вот и слова стали слышны. Колышутся они, словно на волнах спокойной реки, которую миновали они нынче утром:
— Господь-пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться:
он покоит меня на злачных пажитях
и водит меня к водам тихим.
Господь! Аннеле переворачивается ничком, упирается в землю локтями, и глаза ее снова устремляются ввысь — высоко-высоко, далеко-далеко в небо. Где же он там?
Мама сказала: господь — пастырь, пастух. Пастух? А ведь и вправду пастух, если подумать. Тулуп у него из барашков пены, весь в небесно-голубых складках. Сам он большой-пребольшой, сквозь лесную чащу пробиваются золотые острия его крыльев. Где ни скользнут, там луг раскинется, усыпанный цветами, засияют солнечные прогалины. А он все смотрит, все ищет. Кого отыскать старается? Ну, коли пастух он, значит высматривает овец своих.
Подкрепляет душу мою,
направляет меня на стези правды
ради имени своего.
Душа? Аннеле насторожилась. Что это: душа? Где она: душа? То самое незнакомое слово. «Воспари, о душа возлюбленная». Так написано в книге песнопений, что читала Аннеле в Калтынях. Смешно было сестрице, когда Аннеле спросила, что такое душа, но ответить она так и не ответила. Душа, душа! И у Аннеле есть душа! Сама она, знай себе, лежит на траве, а душа унеслась высоко-высоко в поднебесье. Сама она глаза закроет, а душа смотрит и смотрит, все видит. И все-то ей видеть надобно. Хлебом ее не накормишь, водой не напоишь. Ей все одно чего-нибудь да подавай. То солнца, то цветов, то птичьей трели, то быстрых крыльев. Нынче ей надо, чтоб было завтра, завтра — третьего дня, третьего дня — четвертого дня. А то вдруг опечалится, поникнет, и оживить ее нужно. И приходит главный пастырь и ее воскрешает. И тогда покой настает. Воскресенье. Синее небо — воскресенье, луга, лес, цветы, птицы, отец с матерью — все-все тогда воскресенье.
Если я пойду и долиною смертной тени,
Не убоюсь зла, потому что ты со мною;
Твой жезл и твой посох — они успокаивают меня.
Долина смертной тени! Нет-нет-нет, не туда! Не хочет Аннеле и слышать о ней, не хочет и видеть. Что ей за дело? Но увидеть придется. Так душа хочет. Вот и долину смертной тени ей подавай. Открывает душа глаза и смотрит. И следом летит. Отворяется земля, словно сундук без стенок и дна. И летит душа вниз, все глубже и глубже. Туда, где черные пещеры, каменистые гряды. Тьма ледяная. Утесы крутые. Ни зеленой травы, ни неба лазурного. Носится из конца в конец. Плутает, дорогу найти не может. Кто вызволит ее отсюда, из тьмы кромешной, из пучины бездонной?
Твой посох и твой жезл. Вдруг сверкнуло, словно молния. Золотой пастуший жезл опускается вниз. С горных высот в самую бездну долины смертной тени. И по нему, словно по золоченой лесенке, взлетает душа, и снова вокруг земля зеленая, небо лазоревое.
Ты приготовил предо мною трапезу
в виду врагов моих,
Умастил елеем голову мою,
Чаша моя преисполнена.
Прочь, прочь из долины смерти! Вот и снова земля как земля. Словно зеленая горница под голубым шатром неба. Белые столы стоят. Все рассаживаются. Отец, мать, сестра, брат, добрая старая бабушка и все-все домочадцы. В руке у каждого золотая чаша. Слуги господни в белых одеждах, подпоясанных золотыми поясами, обходят всех и наполняют чаши сладким-пресладким березовым соком. Ну и вкусный же он! Слаще, чем на Авотских горах, слаще, чем у самой большой березы.
Читать дальше