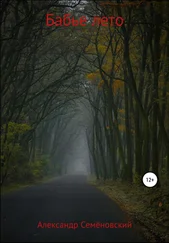Я сказал:
— Фрейлейн, поверьте, я подошел к гроту от навеса из листьев, по левую сторону этой стены, и не мог видеть вас, иначе бы я не вошел сюда и не стал мешать вам.
Ничего не ответив, она все еще смотрела на меня.
Я заговорил снова:
— Раз уж я вас побеспокоил, хотя и против собственной воли, простите меня великодушно, и я тотчас удалюсь.
— Ах, нет, — сказала она.
Заколебавшись и не поняв значения ее слов, я спросил:
— Вы сердитесь на меня, Наталия?
— Нет, я не сержусь на вас, — отвечала она, снова направив на меня потупленный было взгляд.
— Вы пришли сюда, чтобы побыть одной, — сказал я, — поэтому я должен покинуть вас.
— Если вы не избегаете меня намеренно, вы вовсе не должны меня покидать, — ответила она.
— Если это не мой долг — вас покинуть, — возразил я, — то вы должны снова занять свое место, с которого я спугнул вас. Сделайте это, Наталия, сядьте, как вы сидели.
Она опустилась на скамейку поближе к выходу и оперлась на мраморную спинку.
Таким образом я очутился между нею и статуей. Находя это неподобающим, я немного отошел в глубь грота. Однако теперь я оказался перед пустой частью скамейки, и поскольку это тоже показалось мне скорее неприличествующим, чем приличествующим, я сел на другой конец скамейки и сказал:
— Вы любите это место больше, чем прочие?
— Я люблю его, — отвечала она, — потому что оно закрытое и потому что статуя эта красива. Разве и вы не любите его?
— Я люблю эту статую тем больше, чем дольше знаю ее, — отвечал я.
— Вы раньше часто сюда ходили? — спросила она.
— Когда я, по доброте вашей матушки, делал зарисовки штерненхофской мебели и жил здесь почти один, я часто заходил в этот грот, — ответил я. — И позднее тоже, когда приезжал сюда по любезному приглашению, я не упускал случая побывать на этом месте.
— Я вас видела здесь, — сказала она.
— Здесь все устроено так, чтобы давать пищу душе и уму, — отвечал я, — зеленая стена плюща образует покойное ограждение, оба эти дуба стоят, как стражи, а белизна камня мягко оттеняет темноту листьев и сада.
— Все это возникло постепенно, как говорит мать, — сказала Наталия, — вырастили плющ, затем, сделав его стену выше и шире, довели ее до самих дубов. Даже в самом гроте все выглядело когда-то иначе. Скамейки не было. Но поскольку этот мрамор люди очень часто рассматривали, стоя перед ним или просто в гроте поблизости от него, поскольку мать тоже любила подолгу его рассматривать, она велела вытесать из такого же материала эту скамью и снабдить ее затейливой, в языческом стиле спинкой — отчасти для соответствия статуе, отчасти же для того, чтобы скульптуру можно было спокойно и отдохновенно рассматривать. Со временем появилась и алавастровая чаша.
— Людей притягивают такие произведения, — ответил я, — и охотники смотреть всегда найдутся.
— Я видела эту фигуру с детства и привыкла к ней, — сказала Наталия. — Не находите ли вы, что и сам камень очень красив?
— Я нахожу его необыкновенно красивым, — отвечал я.
— Всегда, когда я на него долго смотрю, — сказала она, — мне кажется, что он очень глубок, что в него можно проникнуть и что он прозрачен, а это не так. Он являет глазу чистую поверхность, которая так нежна, что почти не оказывает сопротивления и глаз может зацепиться лишь за сверкающие точки мельчайших зерен.
— Камень и вправду прозрачен, — отвечал я, — нужен только тонкий слой, чтобы смотреть сквозь него. Мир кажется почти золотым, если смотреть на него сквозь камень. Когда много слоев лежат друг на друге, они извне кажутся белыми, так и снег, который состоит сплошь из прозрачных ледяных иголочек, тоже становится белым, когда миллионы таких иголок лежат друг на друге.
— Значит, мое ощущение не было неверно, — сказала она.
— Да, — ответил я, — оно вас не обманывало.
— Если оценивать драгоценные камни не по их стоимости, — сказала она, — а по их благородству, то мрамор надо отнести к драгоценным камням.
— Его надо, его несомненно надо отнести к таковым, — отвечал я, — хотя просто как материал мрамор ценится не столь высоко, сколь камни, которые нужно искать, ибо они встречаются лишь в виде мелких кусочков, он так благороден, так прекрасен, что спросом пользуется не только белый, а и всяких других цветов, что из него делают самые разные вещи и что величайшие произведения изобразительного искусства выполняются в чистейшем белом мраморе.
— Это-то всегда и волновало меня, когда я сидела здесь и смотрела, — сказала она, — что твердый камень передает мягкость и округлость изваянного и что для изображения самого прекрасного в мире берется материал, не имеющий никаких недостатков. Это я даже всегда замечаю в статуе, стоящей на лестнице у нашего друга: она еще прекраснее, внушает еще больше почтения, чем вот эта скульптура, хотя за долгие годы ее материал утратил первоначальную чистоту.
Читать дальше
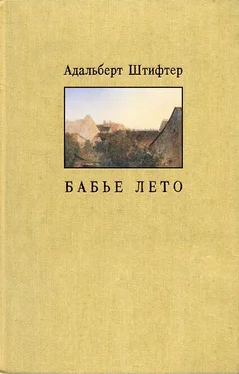
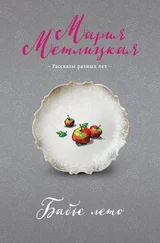

![Елена Коронатова - Бабье лето [повесть и рассказы]](/books/192117/elena-koronatova-babe-leto-povest-i-rasskazy-thumb.webp)





![О Генри - Бабье лето Джонсона Сухого Лога [The Indian Summer of Dry Valley, Johnson]](/books/407344/o-genri-babe-leto-dzhonsona-suhogo-loga-the-india-thumb.webp)