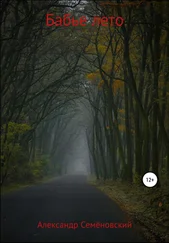Густав не отрывал ласкового взгляда от матери, пока она говорила.
А я сказал:
— Он необыкновенный, совершенно замечательный человек.
Она ничего не ответила на эти слова и помолчала. Потом опять заговорила.
— Я поставила эту розу себе на стол — компаньонкой при чтении. Нравится вам цветок?
— Очень, — отвечал я, — как и вообще все розы, выращиваемые в этом доме.
— Это новая порода, — сказала она, — я получила письмо из Англии от одной приятельницы, где она особо упоминала розу, которую видела в Кью, и приводила ее название. Не найдя этого названия в перечне наших роз, я подумала, что, верно, такой породы у нашего друга нет. Я написала приятельнице, не может ли она раздобыть мне саженцы. С помощью одного нашего общего знакомого она заполучила такое растение и, хорошенько упаковав его в горшок, прислала мне из Англии этой весной. Я ухаживала за ним, и когда стали набухать почки, привезла его нашему другу. Здесь розы открылись полностью, и мы увидели — особенно он, который наперечет знает все признаки, — что такого цветка в коллекции этого дома еще не было. Ойстах зарисовал его для памяти, чтобы сравнить с теми, какие появятся в будущем. Мой друг заказал в Англии привои на следующую весну, а это растение останется пока для лучшего ухода за ним в горшке.
Во время ее речи ветки возле тропинки, которая выходила из кустов на поляну, зашевелились, и на тропинке показалась Наталия. Она была разгорячена и несла в руке букет полевых цветов. Она, видимо, не знала, что к матери кто-то пришел, ибо очень испугалась, и мне показалось даже, что на ее раскрасневшемся лице проступила бледность, которая тут же сменилась еще более ярким румянцем. Я тоже почти испугался и поднялся.
Она остановилась у куста, и я произнес:
— Очень рад, фрейлейн, видеть вас в полном благополучии.
— Я тоже рада вашему благополучию, — ответила она.
— Дитя мое, ты очень разгорячена, — сказала мать. — Ты, наверное, была далеко, скоро уже полдень, а в это время ходить так далеко тебе не следовало бы. Присядь на это кресло, но сядь на солнце, чтобы не охладиться слишком быстро.
Наталия еще немного постояла, затем послушно подвинула одно из стоявших кругом кресел на самое солнце и села. Когда она выходила из кустов, круглая шляпа с небольшим козырьком, какие Матильда и она обычно носили на прогулках вблизи дома роз и Штерненхофа, была у нее в руке, но сейчас, когда солнце светило ей в темя, она надела ее. Букет полевых цветов она положила на стол и принялась вытаскивать отдельные растения, как бы складывая из них новый букет.
— Где же ты была? — спросила мать.
— Я побывала у нескольких розариев в саду, — отвечала Наталия, — обошла кусты возле карликовых деревьев и под большими деревьями, затем поднялась к вишне и оттуда вышла в поля. Там взошли посевы и цветут цветы между колосьями и в траве. Я прошла по тропке между хлебами, дошла до полевого привала, посидела там немного, затем ходила по хлебному холму, без дороги, межами, собрала эти цветы, а потом вернулась в сад.
— И долго ли ты пробыла на той горе и все ли время собирала цветы? — спросила Матильда.
— Не знаю, долго ли я была на горе, но думаю, что недолго, — ответила Наталия. — Я не только собирала цветы, но смотрела на горы, глядела на небо, на округу, на этот сад и на этот дом.
— Дитя мое, — сказала Матильда, — это не беда, если ты ходишь в окрестности дома, но не следует ходить по холму на жарком солнце, которое в полдень, правда, не жарче всего, но достаточно жарко, а холм совершенно открыт ему, там нет ни деревца — кроме как у полевого привала, — ни кустика, которые давали бы тень. И ты не знаешь, как долго находилась на жаре, ведь погружаясь в созерцание или собирая цветы, ты не замечаешь времени за этим занятием.
— Я не погружалась в собирание цветов, — отвечала Наталия, — я просто срывала их невзначай, когда они попадались. Солнце не причиняет мне такого вреда, как ты думаешь, милая матушка, я чувствую себя очень хорошо и очень свободно, тепло в теле скорее дает мне силы, чем угнетает меня.
— И шляпу ты тоже несла на руке, — сказала мать.
— Да, — отвечала Наталия, — но ты знаешь, что у меня густые волосы, на которые солнечное тепло действует благотворнее, чем жара от шляпы, и когда голова открыта, ветерок приятно обдувает лоб и волосы.
Я рассматривал Наталию, когда она говорила. Только теперь я понял, почему она меня всегда так поражала, понял, повидав отцовские камеи. Мне показалось, что Наталия очень похожа на одно из увиденных там лиц. Лоб, нос, рот, глаза, щеки — во всем было нечто такое же, что и в женщинах на камеях, во всем была та свобода, та высокая простота, та нежность и в то же время сила, которые указывают на совершенное тело, но и на недюжинную волю и недюжинную душу. Я взглянул на Густава, все еще стоявшего у стола, думая, что, может быть, обнаружу и в нем что-то подобное. Он еще не так развился, чтобы его внешность выражала его натуру, черты его еще слишком округлы и мягки. Но мне показалось, что через несколько лет у него будет такой же вид, как у юношей в шлемах на отцовских камеях, и он будет еще больше похож на Наталию. Взглянул я и на Матильду. Но ее черты были уже смягчены возрастом. Тем не менее я подумал, что еще недавно, наверное, она походила на пожилых женщин камей. Наталия, стало быть, была отпрыском ушедшего поколения. Иного, более самобытного, чем нынешнее. Я долго смотрел на девушку, которая, говоря, то поднимала глаза к нам, то снова опускала их на свои цветы. Голова ее казалась такой античной, пользуясь древнеримским прилагательным, которое отец применял к своим камеям, отчасти, может быть, — во всяком случае, Наталии это шло, — благодаря стройной шее и совсем простому, строгому платью. На ее шее не было ни финтифлюшек из материи, ни ожерелья, ни еще каких-нибудь украшений — что делает лишь прелестные лица еще прелестнее, — шею окаймляло только неброского покроя, скромно облегавшее девушку платье.
Читать дальше
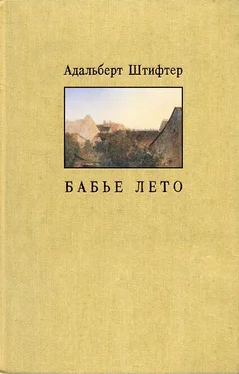
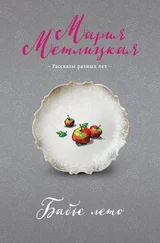

![Елена Коронатова - Бабье лето [повесть и рассказы]](/books/192117/elena-koronatova-babe-leto-povest-i-rasskazy-thumb.webp)





![О Генри - Бабье лето Джонсона Сухого Лога [The Indian Summer of Dry Valley, Johnson]](/books/407344/o-genri-babe-leto-dzhonsona-suhogo-loga-the-india-thumb.webp)