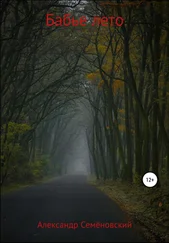Густав вообще все более ко мне привязывался. Вероятно, прежде всего, как я и раньше думал, сказалось то обстоятельство, что по возрасту я отстоял от него не так далеко. Прибавилось, верно, и то, что, выросши, в сущности, в большом одиночестве, я гораздо дольше, чем прочие мои сверстники, сохранял черты детства. Наконец, повлиять могло и то, что благодаря своему безделью я находил теперь гораздо больше точек соприкосновения с Густавом, чем это бывало в прежние мои приезды в дом роз.
В Асперхофе я писал теперь больше писем, чем раньше, читал поэтов, наблюдал окружавшее меня, часто совершал далекие прогулки. Но этот образ жизни мне вскоре наскучил, и я стал искать чего-то, что заняло бы меня глубже. Поэты, самое благородное из того, с чем я встречался теперь, снова толкнули меня к живописи. Я привел в порядок свои принадлежности для рисования и краски и стал опять упражняться в пейзажной живописи. Я писал то клок неба, то облако, то дерево или группы деревьев, отдаленные горы, холмистые поля и тому подобное. Не делая исключения и для человеческого облика, я пытался изображать его части. Я пытался перенести на холст лица садовника Симона и его супруги. Они были этому очень рады, и я отдал им портреты в их комнату, заказав предварительно подходящие рамы и успев до прибытия таковых снять с обеих голов копии для собственной папки. Я писал руки и бюсты разных обитателей дома и хутора. Попросить моего гостеприимца, или Густава, или Ойстаха послужить предметом моих художеств я не осмеливался, потому что успехи мои были еще весьма незначительны.
Из всех наибольшее участие в этих делах принимал Густав. Если в прошлом году он писал со мной мебель, то нынче он тоже взялся за пейзажи. Ни его приемный отец, ни его учитель рисования ничего против того не имели, поскольку на эти занятия уходило только его свободное время, поскольку его телесные упражнения от них не страдали и поскольку от этого еще более укреплялся союз между ним и мною, на что мой гостеприимец взирал, видимо, одобрительно, ведь, в конце концов, у юноши не было никого, на кого бы он мог обратить чувство дружества, столь часто пробуждающееся в его возрасте и исподволь облюбовывающее себе определенный предмет. У Ойстаха он видел обычно только рисунки зданий и мебели, да и Роланд привозил из своих поездок лишь подобные вещи. Хотя на пейзажах, висевших в коллекции его приемного отца, Густав мог видеть зеленые деревья, белые облака, синие горы, он не задумывался об их возникновении, для него эти картины просто существовали, как существуют дом, поле на холме, гора, далекая башня церкви, и ему в голову не приходило, что и он способен творить подобные вещи. На прогулках он говорил о форме того или иного дерева, об округлости той или иной горы и рассказывал мне, что ему часто снится, как он рисует.
Юношу отпускали со мной и на изрядные расстояния от дома роз. Работы его распределялись при этом так, чтобы их можно было прервать без особого ущерба для них. Зато он становился гораздо здоровее и закаленнее. Нередко мы отлучались на несколько дней, и Густав очень любил те вечерние часы, когда мы, после легкого ужина в каком-нибудь трактире, уходили в свою комнату и он мог поглядеть в окно на незнакомую местность, разложить на столе свои дорожные вещи и вытянуться затем на гостиничной кровати. Мы взбирались на высокие горы, ходили мимо отвесных скал, следовали за течением журчащих ручьев и переправлялись через озера. Густав стал сильным, и это было отчетливо видно, когда мы возвращались из какого-нибудь горного похода — а в горы мы ходили почти всегда, — когда щеки его бывали чуть ли не черны от загара, локоны падали на смуглый лоб, а большие глаза ярко светились. Не знаю, что привлекало меня к этому юноше, по уму еще, в сущности, мальчику, которого мне приходилось учить самым простым, самым обыденным вещам, особенно связанным с нашими походами, который сам не мог предложить ничего, что как-то обогащало бы и возвышало меня. Причиною был, верно, тот образец совершеннейшей доброты и чистоты, какой я в нем с каждым днем все явственнее видел, все глубже любил и чтил.
Сходил я несколько раз и на Лаутерское озеро. Я начал в прошлом году измерять его глубину в разных местах, чтобы составить карту, где окружающие озеро горы продолжались и под поверхностью воды и были изображены в этом случае лишь более темным цветом. Это занятие снова меня увлекло, и я стал опять целенаправленно делать замеры, чтобы еще лучше исследовать впадину озера и получить как можно более точную карту. Густав не раз сопровождал меня и работал наравне с людьми, которых я нанял, чтобы управлять судном, бросать лоты, водружать блоки для шнуров с грузилом и делать все прочее, в чем будет необходимость.
Читать дальше
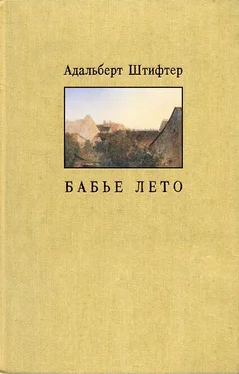
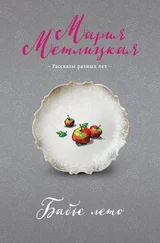

![Елена Коронатова - Бабье лето [повесть и рассказы]](/books/192117/elena-koronatova-babe-leto-povest-i-rasskazy-thumb.webp)





![О Генри - Бабье лето Джонсона Сухого Лога [The Indian Summer of Dry Valley, Johnson]](/books/407344/o-genri-babe-leto-dzhonsona-suhogo-loga-the-india-thumb.webp)