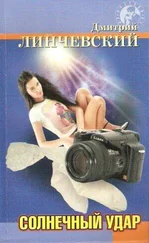Примкнул. Но не вписался.
В глубине, в основе, тут лежало капитальное несхождение.
Герметизм защищал, укрывал, спасал нечто — некую содержательность индивида.
Ландольфи же, защищая, укрывая, спасая от тоталитарного прожектора нечто, номинально означавшее индивида, — обнаружил, что он спасает… ничто . Индивид был насквозь пробит, просквожен беспощадным светом «целого». Он оказался прозрачен, ирреален в своем бытии… или небытии?
В сущности, бытие равно небытию — вот вывод Ландольфи. Вывод, вполне абсурдистский с точки зрения нормальной, здоровой логики и доставивший Ландольфи в истории современной итальянской литературы, да и в мировом литературном процессе (куда Ландольфи, с ростом популярности его книг, оказался прочно включен), репутацию какого-то неприкаянного чудака и парадоксалиста.
Для понимания рассказов Ландольфи нужен «ключ». Ключ вовсе не сюрреалистический, хотя в итальянскую прозу XX века Ландольфи оказался в конце концов вписан именно как сюрреалист. Это дело тонкое. Мне вообще плохо верится в искусство, которое ставит себе целью создать из элементов реальности нечто ирреальное, передать хаос и бессмыслицу через хаос и бессмыслицу. Хаос и так имеется. Художник или строит космос, или кончается как художник. Ключ, ключ нужен.
«Диалог о главнейших системах» (1937) по внешности — нагромождение нелепиц. Некий капитан преподает герою под видом персидского языка какой-то доморощенный волапюк; герой пишет на этом непонятном языке непонятные стихи и несет известному критику; критик думает, что его мистифицируют, валяет дурака, уклоняется от ответа; все это странное взаимное мороченье кончается тем, что герой сходит с ума. Или притворяется, что сходит. Рассказ, если читать его как «запись безумства», в лучшем случае может потешить нас в качестве пародии на филологическое псевдоумие. При чем тут к тому же Галилей?..
Однако, когда знаешь ключ к судьбе Галилея, хаотическая апология хаоса уже начинает выявлять в себе строй и смысл. А если вчитаться в интонацию, то ключ к рассказу дается в первой же фразе:
«Когда поутру встаешь с постели, кроме чувства изумления, что по-прежнему живешь, не меньшее изумление испытываешь и оттого, что все осталось в точности так, как было накануне…»
Постойте, а что, собственно, должно было произойти? Почему человек, доживший до утра, изумляется этому факту? Интонация такого восторга наводит на мысль, что нормой-то является не дожить до утра. Это и есть суть высказывания, какой бы невозмутимостью ни прикрывался здесь тихий ужас. С такой же невозмутимостью Эпиктет беседовал когда-то с господином, ломавшим ему ногу. Ландольфи пишет вовсе не о графомане, которому «подвернулся один англичанин», учивший его «персидскому языку», — речь идет о существовании индивида, изначально растоптанного в прах. Об изумлении человека, который дожил до утра в своем доме, причем к нему не ворвались с обыском, не поволокли на допрос, не заставили подписывать здравицу в честь дуче или фюрера. Может быть, тень застенка впрямую и не падает на героя Ландольфи. Может быть, он просто слышал рев восторженной толпы на залитом солнцем стадионе. Этого ему достаточно: теперь он живет в презумпции небытия.
Он был бы рад хоть на мгновение забыть о своей обреченности. Он хотел бы бежать… куда? Куда бежать? В «чистое искусство», в «твердыню слова» [1] Мысль О. Мандельштама: о крепости слова, в которую спасается культура.
— но всякое слово заранее взято на прицел: ничего нельзя назвать своим именем . Что делать? Выдумать «новый язык»? Но все поймут, зачем эта выдумка. Круговой страх: критик юлит, крутит, говорит как бы не от своего лица; он хочет выйти сухим из воды, он уверен, что его топят, провоцируют. Да что критик — автор стихов сам отрекается от написанного. Того прошибает холодный пот, этот сходит с ума…
У человека нет убежища ни в реальности, ни в словесности: его все равно высветят, выхолостят. Попытка спрятаться — такая же иллюзия, как все в этом мире… тут посещает героя Ландольфи самая страшная догадка: не в том дело, что спрятаться негде, а в том, что человеку нечего прятать.
И все-таки поначалу он ищет убежища. Лейтмотивы раннего Ландольфи: дырка, в которую хочется залезть, укрыться, старая одежда, в которую надо втиснуться. Старые вещи, заплесневелые подвалы, заброшенные чердаки… Черви, пауки, крысы, полчища тараканов. Копошение жизни, лишенной человеческого содержания, оборачивающейся какой-то босховской гримасой… Воплощая свою сквозную, изначальную тревогу в «ткань реальности» (и входя как рассказчик в период зрелого мастерства — я имею в виду изданный в 1942 году сборник «Меч»), Томмазо Ландольфи оснащает свой мир аксессуарами то ли средневековых хроник, то ли полных чертовщины легенд.
Читать дальше