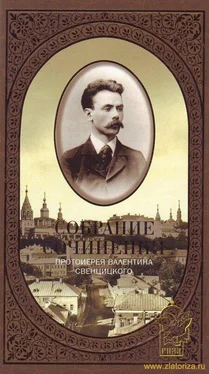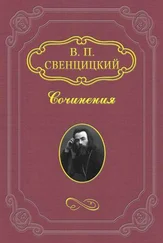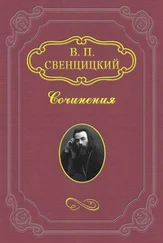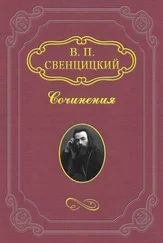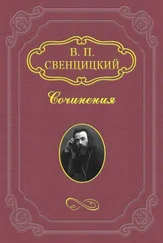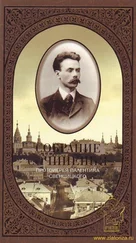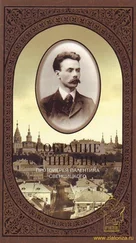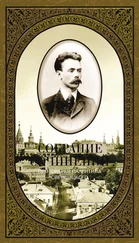И теперь вопрос стоит перед вами ребром: или со Христом — тогда на муки, на подвиг, или против Христа — тогда жизнь в хоромах, почёт, уважение, но тогда уже не смейте заикаться о «работе Господней»!
Всё время, пока я говорил, Евлампий сидел не подымая глаз. Николай Эдуардович с вопросом и надеждой смотрел на него.
Когда я кончил, угрястый академик, краснея и взглядывая то на меня, то на Евлампия, сказал:
— Всё это так, но мне кажется, что вопросы эти далеко ещё не выяснены в богословской литературе…
Ему никто ничего не ответил.
Я был уверен, что Евлампий не выдержит своей роли, и ждал от него какой-нибудь грубой выходки.
Но Евлампий поднял своё лицо, ещё более побледневшее, но уже с новым, мягким, как бы пристыженным, выражением, и, обратившись почему-то не ко мне, а к Николаю Эдуардовичу, тихо спросил:
— Если все молчат, то, значит, все отрекаются, где же тогда Церковь, про которую сказано, что «врата адовы не одолеют её»?
В вопросе Евлампия мне почудилось то же холодное безжизненное любопытство, которое так хорошо было знакомо мне, и я готов был расхохотаться ему в лицо. Я боюсь смеха. В смехе есть что-то страшное. Человек — труп; но что может быть ужаснее смеющегося трупа?..
И при мысли о том, какой хохот наполнит внезапно эту душную, жаркую комнату, я весь задрожал холодною дрожью и, отдаваясь чему-то, что было сильнее меня, заговорил неестественно громко и с такою властью, которая мне совершенно не свойственна…
— Церкви нет… Церкви Христовой нет. Приближаются последние дни. По пророческому слову мерзость и запустение станут на святом месте. Церковь предастся во власть Антихриста… Антихрист победил земную Церковь!
Я почти кричал. Как вихрь что-то неслось во мне. И не ужас, но радость тяжёлая и тёмная душила меня от этих слов о торжестве Антихриста.
— И сейчас я чувствую, — продолжал я, холодея, — что меж нами… собравшимися во Имя Христово, не Христос, а Антихрист… Я чувствую его близость… Он пятый между нас… Он страх… Он входит во всех нас…
Но силы сразу оставили меня, и я замолчал.
Стало так тихо, так тихо, как в истлевшей могиле. Я ничего не видал перед собой, только глубокие, полные любви и тоски глаза Николая Эдуардовича стояли передо мной, как два глаза Распятого…
— Видно, надо говорить всю правду, — тяжело начал Евлампий, — ведь Бог-то видит; не по незнанию, а по слабости молчим… Подлинно, подлинно от Христа отрекаемся… Сил нет… Дерзновения нет… О, как тяжело-то иной раз бывает, если б вы знали.
Он, сгорбившись и держась рукой за голову, наклонился над столом.
— Владыка, — тихо, но страстно, мучительно проговорил Николай Эдуардович, — Христос поможет вам, Христос даст силы вам. Мы будем молиться… Христос не оставит Церковь свою… О, если в вас есть хоть капля любви, вы пойдёте на этот святой подвиг… Мы умоляем вас, мы все будем с вами. Сделайте это. Верьте, тысячи сердец отзовутся на ваш святой призыв, и силы ваши умножатся. Только начать… Дерзайте, владыко. Правда сильнее силы… Антихриста победит Христос…
«Всё это он мне говорит, — как в бреду неслось в моём мозгу, — мне или тому, что во мне… И почему так давят его слова?.. Почему так страшно, так темно, так душно?.. Он говорит о Христе, но это неправда… Почему же слова его так связывают меня?.. Ужели Он победит?!..»
Евлампий ещё ниже нагнулся над столом и почти шёпотом говорил:
— Дайте подумать… дайте подумать недельку. Я не отказываюсь… Может быть… Сил только нет; робость какая-то, словно связан чем… Господи, прости согрешения наши.
— Это путы зверя — Антихриста, — едва выговорил я. Моё горло давила судорога. Как в тумане, всё двигалось и расширялось передо мной.
Я видел, что Николай Эдуардович прощается с Евлампием, тот крестит, целует его, и лицо у него не прежнее холодное и фальшивое, а умилённое и заплаканное.
— Если вы пойдёте к другим епископам, — говорил он, и на губах его улыбка добрая, даже детская, — будьте осторожны, а то можете на такого напасть, что и за полицией пошлёт.
Мы уходим…
Как в тумане всё было, как в бреду или в тяжёлом сне… Весь мир действительный исчез для меня, и другое открылось, и другое, окончательное, должно было начаться…
Так это не могло кончиться. Я не знал, что именно должно произойти, но отчётливо сознавал одно: теперь это неизбежно — бежать некуда…
Дойдут ли до вас эти нечеловеческие муки, пережитые мной? Мне не нужно ваших сожалений. Мне нужно лишь, чтобы вы поняли меня, чтобы исповедь моя, хоть на один миг, была для вас действительной исповедью, во всей ужасающей сложности раскрывающей, что я за «типик». Об одном я готов умолять вас: не заподазривайте меня в выдумке. Вам легко будет сделать это. Но клянусь вам, всё это, до мельчайшей подробности, пережито мной — да кто знает, может быть, и не мною одним, — и лишь разница в том, что я откровенно (согласен, что даже до непозволительности откровенно) обнажаю перед вами свою душу.
Читать дальше