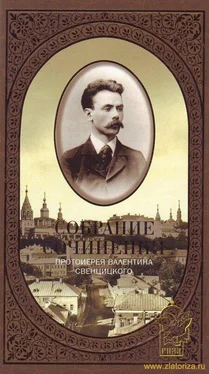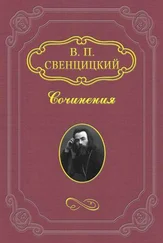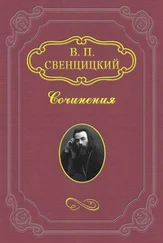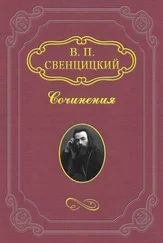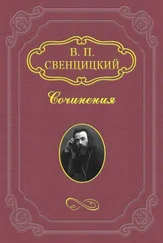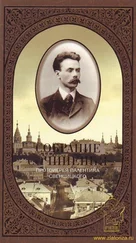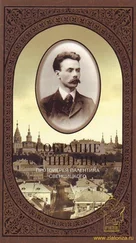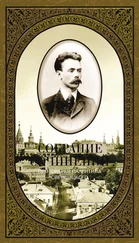— Да, иногда, — ответил я.
Я сказал правду, но никогда самая наглая ложь не заставила бы меня так смутиться, как смутился я от своего ответа.
Мы молчали. Уже светало, и бледный свет лампы безжизненно расплывался в утренних сумерках. Мы оба были как больные; нервы ослабли; томительно ползла минута за минутой.
Вдруг Николай Эдуардович поднял голову и спросил (я никогда не забуду его голоса):
— Знаете ли вы жажду мученичества?
Я молчал и, не сводя глаз, смотрел на него, мне жутко было смотреть на него, а губы мои судорога кривила в улыбку.
Но он, видимо, не замечал меня и говорил сам с собой:
— Мученичества, чтобы за Христа, за вечную правду взяли бы тебя, привязали к позорному столбу, грубо, безбожно — и били бы кнутом, истерзали бы всю кожу, чтобы мясо кусками летело и кровь ручьём лилась… И издевались бы, и хохотали бы. Чтобы всё, как на Голгофе… Христу бы с трепетом благоговейнейшим отдать всё это. На себя бы Его вечные муки, на себя бы принять, хоть самую маленькую частицу… О, я так часто жажду этих страданий…
И с внезапным порывом он сказал:
— Дорогой мой… друг мой… пойдёмте ко всем епископам, будем умолять их, на коленях именем Христа будем требовать от них написать окружное послание, обличить… Христос будет с нами… Они послушают нас… Спасём Церковь и народ наш, который терзают…
И он сел рядом со мной и заглядывал мне в лицо.
— Ну, что ж, это хорошо, — с трудом выговаривал я, — напишем обращение к епископам… Только пишите вы, я не могу…
Я чувствовал, что в глазах у меня темнеет, в голове растёт что-то громадное. Вот-вот я охвачу мир…
«Не с ума ли я схожу?» Слабость овладевала всем моим телом. Я почти лишился сознанья.
Епископ Евлампий очень любил принимать у себя молодёжь. Не проходило ни одного вечера, чтобы у него не собралась целая компания.
Не знаю, может быть, в силу моей обычной мнительности, но я не верил в искренность его любви ко всем этим, часто необыкновенно бестолковым, посетителям. Не верил также и в его простоту, доходящую до совершенно товарищеской фамильярности, с которой он обращался ко всем без исключения. Мне всегда казалось, что он ищет популярности, что он играет комедию и упивается ролью отца-архипастыря. Он имел необыкновенно эффектную внешность. Страшно высокий, стройный, с открытым русским, совсем ещё молодым лицом, всегда в белой шёлковой рясе, он одним своим видом мог внушить почтительное благоговение. Голос у него был громкий и ласковый. При встрече он горячо обнимал гостей; и вообще во время разговора любил брать за руки, привлекать себе на грудь и целовать в лоб.
Но на меня и наружность его, и все его манеры производили отталкивающее впечатление. Я не верил ему ни на йоту. Ласки его были холодны и театральны. И мне было не по себе, когда он обхватывал мои плечи своими огромными красивыми руками.
В блестящих, почти масляных глазах его, которые никогда не смотрели в упор, я читал большую любовь к еде, к вину, к женщинам и ту циничную плутоватость, которая часто бывает у избалованных слуг.
Евлампий очень не любил разговоров, которые по своим практическим выводам могли к чему-либо обязывать.
Он тогда спешил переменить тему и делал это чрезвычайно искусно, с обворожительной простотой и задушевностью, начиная рассказывать какой-нибудь случай из своей жизни, который всегда кончался одинаковой моралью: не нужно очень зарываться высоко — это гордость, а со смирением делать маленькую работу — и всё будет добро.
Но, по неестественной улыбке, по мелким, каким-то брезгливым складочкам около губ, я прекрасно видел, что он всех обманывает, что ему никакие дела — ни большие, ни малые — неинтересны, да и все мы вообще надоели, и что он с гораздо большим удовольствием поговорил бы теперь на двусмысленные темы в какой-нибудь «тёплой» компании.
Мне всегда казалось, что он чувствует, что я его понимаю, и поэтому обращается ко мне с особенным игривым лукавством.
Я инстинктом чувствовал, что от такого соединения, как Евлампий, я и Николай Эдуардович, по такому страшному вопросу, должно произойти что-нибудь необычайное.
И я не ошибся.
Евлампий встретил нас, по обыкновению, в своей приёмной, узкой длинной комнате, со сводами, расписанными картинами на библейские сюжеты. Она освещалась тёмно-синим матовым фонарём; в ней было душно, жарко и пахло розовым маслом.
Евлампий в своей белой, мягко шуршащей шёлковой рясе быстро подошёл к нам, благословил, обнял, поцеловал, выразил радостное изумление по поводу нашего прихода; усадил за стол, за которым сейчас же появились канделябры, сушёные фрукты, конфеты, виноград, и, посматривая то на меня, то на Николая Эдуардовича, уже начал было свою обычную ласковую фамильярную речь.
Читать дальше