И еще одно, Арвид. Ты ради меня вовсе не должен думать о разводе. Как я раньше не хотела быть тебе в тягость, так и теперь не хочу. Только бы тебе было хорошо. И я постараюсь забыть, что у тебя есть жена, и дети, и свой, от меня особый мир. Выпадут же нам минуты, когда все, все позабудется и мы останемся одни в целом свете, только ты и я…
Лидия».
И еще через два дня пришло письмо:
«О, Арвид, если б ты только знал, какая счастливая проснулась я нынче утром! Деревья в саду стоят под снегом, снег блестит, какое солнце, какое небо! А когда я подняла шторы, прямо на меня с ветки глянул снегирь — красная, пушистая грудка вся дрожит, так и видно, как колотится птичье сердце!
Маркус вдруг переменился. Все последние дни мы едва обменялись двумя словами, он и обедал у себя в кабинете. А вчера вдруг вышел к столу и сделался мил и любезен, как он это умеет, когда захочет. Когда мы отобедали, он попросил меня поиграть ему. Я играла «Патетическую сонату». Он сидел в большом кресле у камина, Марианна стояла подле меня. В комнате стало темно, только горели две свечи на рояле, да еще камин… Он попросил играть еще, я играла прелюдии Шопена… Потом Марианна пошла спать, было уже девять часов.
Мы остались вдвоем. «Сядь сюда», — попросил он меня. Я села рядом с ним у камина. «Лидия, Лидия, — сказал он. — Будь по-твоему». Я смолчала. Я не знала, что сказать, и я хотела послушать, что он скажет дальше.
А он сказал: «По тому, как идет наша жизнь последнее время, Лидия, и в особенности после того, как ты воротилась из Стокгольма, я заключаю, что ты в кого-то влюбилась. Сомнений у меня нет никаких. И я не стал бы говорить с тобой об этом. Но неизбежным следствием твоей перемены будет твое ежедневное, ежечасное ожидание моей скорейшей смерти. Разве неправда? Нет, нет, не отвечай мне, зачем? И вот мне бы никоим образом не хотелось быть косвенной причиной того, что в один прекрасный день страшная и гибельная мысль войдет в эту милую и столь дорогую для меня головку. А ведь ты была мне очень дорога, Лидия… да и теперь еще ты мне дорога… Ну так вот, будь по-твоему».
Я не находила слов. Я взяла его руку и покрывала ее поцелуями и слезами. И я целовала его в белые волосы. За этот последний год они совсем побелели.
«Но, конечно, — добавил он, — конечно, если тебе вздумается взглянуть на Марианну и на свой старый дом, ты всегда будешь тут желанной гостьей…»
Я едва смогла выговорить «благодарю».
Мы еще долго сидели и смотрели на гаснущий камин. А потом пожелали друг другу доброй ночи и разошлись по своим комнатам.
Нынче после завтрака мы уже вошли во все подробности. Он хотел положить мне содержание в пять тысяч (без всяких условий). Но я стояла на своем: две тысячи. Зачем мне брать от него больше, чем надо мне на жизнь? Он говорил, что такое скудное содержание вызовет слухи и оговоры, подумают, будто я нарушила свой долг и оттого сослана и обречена на жалкое существованье… Но я стояла на своем. Что мне за дело до того, что подумают люди? Не нужно мне от него больше необходимого… Я никогда не стремилась к роскоши. «Маленькая квартирка, всего две комнатки в Стокгольме, да кое-какая мебель, вот и все, что мне нужно», — сказала я. Тогда он попросил у меня разрешения дать мне хотя бы денег на мебель. И я согласилась, поблагодарила.
Теперь решено, что на той неделе я еду в Копенгаген с Эстер (Эстер Рослин — родственница Маркуса, но со мной она больше дружна, чем с ним, — ты видел ее тогда в Опере, помнишь?), и самое большее через две недели — я свободна! Свободна!..
Лидия».
Прошла неделя. Потом он получил цветную открытку из Копенгагена с видом Ратуши и коротенькой припиской. А еще через несколько дней опять письмо:
«Арвид. Все устроилось. Через несколько дней я в Стокгольме. Встречать меня на вокзале не надо, я же буду с Эстер. А нам с тобой придется быть осторожными. Я должна блюсти свою репутацию ради моей девочки. Да и ради Маркуса; он был так добр ко мне, и я не хочу без нужды причинять ему боль. Повременим, покуда у меня не будет своего жилища. Мне бы хотелось две комнатки, но чтобы газ, и водопровод, и прочее. Зато тогда…
О, Арвид, сколько лет, долгих, пустых лет душа моя томилась по настоящей любви, и как я теперь жду тебя!..
Лидия».
Арвид Шернблум долго сидел, задумавшись, с письмом в руке. Он вдруг ощутил странную робость. «Что я, в сущности, такое? Такие ожидания! Не всякому дано их не обмануть… Но это же Лидия. И я ее люблю».
* * *
Стоял март, близилось весеннее равноденствие. Был канун Благовещенья. Газеты по таким дням не выходят, и это освобождало ему весь день и всю ночь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
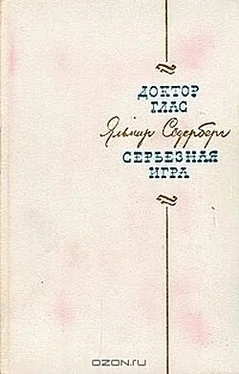






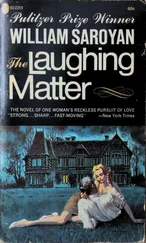
![Майя Ахмедова - Другой Ледяной Король, или Игры не по правилам [Игра вслепую + Игра с огнём + Игра в прятки]](/books/426615/majya-ahmedova-drugoj-ledyanoj-korol-ili-igry-ne-p-thumb.webp)


