Она сидела, уткнувшись головой ему в грудь, и плакала, плакала. Она не слушала его. Она тряслась от плача. Потом вдруг высвободилась, встала и вытерла слезы.
Она стояла юная, тоненькая, и траур очень шел к ее светлым волосам.
— Я пойду, — сказала она.
Он тоже поднялся. И сказал после того, как с усилием оторвался от ее рта:
— Ты будешь моим добрым гением, я знаю.
Она надела капор и пальто. Они были совсем мокрые.
— Прощай, — сказала она.
— Свидимся ли?
— Не знаю…
Она взялась за дверную ручку, Арвид повернул ключ в замке.
— Не знаю, — сказала она.
И вдруг обвила руками его шею.
— Дай я скажу тебе что-то на ушко, — шепнула она. И сказала ему в самое ухо:
— Я бы хотела. Но я боюсь.
И, высвободившись, метнулась и коридор.
* * *
Однажды апрельским утром Арвид Шернблум получил письмо.
Он тотчас узнал почерк Лидии и нетерпеливо разорвал конверт. В конверте оказался лишь небольшой листок бумаги. С одной стороны она карандашом набросала пейзажик — осенняя равнина, голые ивы, отраженные тихой водой, темное небо, низкие тучи и стая перелетных птиц…
А на оборотной стороне листка, тоже карандашом, было написано:
Прочь сердце рвется, в даль, даль, даль… [11] Строка из стихотворения норвежского писателя Бьёрнстьерне Бьёрнсона (1832–1910).
И больше ни слова.
Что она хотела сказать? Что-то важное. Но что? Догадаться он не мог, а листок сложил и спрятал в записную книжку.
* * *
В тот год в самом начале апреля выдались погожие, весенние дни. Чуть подальше, за городом, еще лежали осевшие, серые сугробы, еще была зима, жалкая, старая зима. Но в городе улицы свежо и чисто блестели на солнце, Норстрем сверкал, бурлил и бело пенился, а в Королевском саду предприимчивые итальянцы в потертых пальто торговали воздушными шарами, синими, красными, зелеными, и окончательно верилось, что не на шутку пришла весна.
Однажды около трех часов пополудни Арвид брел по аллее Королевского сада. И вдруг нос к носу столкнулся с Филипом Стилле. Завязался разговор, и они пошли рядом.
— Спасибо тебе за венок, — сказал Стилле. — Очень мило с твоей стороны.
— Ну что ты, какие пустяки…
— Ты все еще учительствуешь?
— Нет, бросил. Ты не слыхал? Я в «Национальбладет».
— Слыхал, но я думал… Что ж, может, такая карьера и лучше.
Они увидели поодаль двоих высокого роста стариков, все расступались, давая им дорогу, и мужчины снимали шляпы. То был король в сопровождении королевского лесничего.
Оба умолкли. Филип Стилле, как видно, принадлежал к числу тех, кто ощущает известную приподнятость духа вблизи королевской особы. Арвиду Шернблуму просто в эту минуту ничего не пришло на ум. Когда король проходил мимо, оба обнажили головы.
— Что пишет тебе твой брат? — спросил Шернблум.
— О, у него там превосходное место, в какой-то крупной фирме. Он вполне обеспечен. И впрочем, — добавил Филип, — отец оставил не такое уж плохое наследство. Он ничего не откладывал, это мы знали, и не делал долгов, это мы знали тоже. Но у него к тому же оказалось небольшое собрание «старых мастеров», по большей части, разумеется, сомнительных или негодных, они достались ему чуть не даром. И вот две вещи проданы за очень хорошую цену на Буковском аукционе. Да еще кое-какие безделки и украшения, всего на восемь тысяч крон. Не так уж много, особенно если делить на троих. Но мы с братом живем своим трудом. А Лидия обеспечена.
Они расстались на углу Арсенальной. Стилле надо было в сторону Эстермальма, Шернблум никуда не торопился, но сказал, что ему пора в газету.
«Лидия обеспечена».
И какая-то странная, какая-то загадочная была у него улыбка, когда он это говорил…
Колокол часовни святого Иакова колотился и звенел. Хоронили старого ростовщика.
На площади Святого Иакова ему пришлось пройти мимо троих «мужей совета», как называли бы их в прежние времена. То был премьер-министр с министром юстиции по правую руку и военным министром, иссохшим ветераном франко-прусской войны, по левую. Он не раз уже видел всех троих из ложи прессы в старой ратуше. Вспомнив сочные истории в духе Декамерона, ходившие о странно безобразном и немолодом министре юстиции, Арвид не смог подавить усмешку. А следом на почтительном расстоянии трусила какая-то странная личность в чуть не до земли длиннополом серо-линялом сюртуке…
На площади Густава Адольфа Шернблум мгновение помедлил перед витриной своей газеты, где выставлялись на обозрение последние телеграммы. Самая свежая гласила: «Папа предложил свое посредничество Испании и Соединенным Штатам». Он представил их себе с отчетливостью видения: отмеченный иронией и истонченный редким долголетием профиль Льва Тринадцатого, каким он запомнился ему по многим репродукциям со знаменитого портрета Ленбаха, и президент Мак-Кинли, говорящая машина, наемник денежных мешков, защитник всех тех, для кого война — средство множить капиталы. Боюсь, подумал он, что этим господам нелегко будет договориться… А где-то на заднем плане картины теснились бестолковые, полупомешанные испанские гранды и генералы, для которых «честь Испании», а в сущности, их собственная честь составляла все и застила прочие ценности мира… Нет, думал он, Льву Тринадцатому с ними со всеми не совладать…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
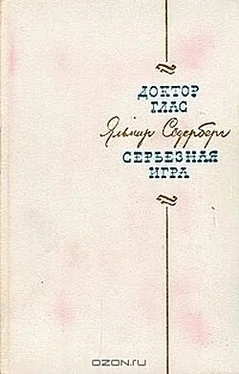






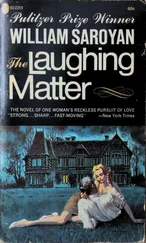
![Майя Ахмедова - Другой Ледяной Король, или Игры не по правилам [Игра вслепую + Игра с огнём + Игра в прятки]](/books/426615/majya-ahmedova-drugoj-ledyanoj-korol-ili-igry-ne-p-thumb.webp)


