XVII
Что такое революция? Порыв ветра. Он возмущает поверхность океана и улетает, взволновав море.
XVIII
Что такое век? Минута в ночи.
XIX
Что такое несчастье? Жизнь.
XX
Что такое слово? Ничто. Как и Бытие, всего лишь простая длительность.
XXI
Что такое человек? О, что есть человек? Что я об этом знаю? Спросите призрака, что он такое, и он ответит, если только ответит: я тень такого-то. Что ж, человек — образ Бога. Какого? Того, кто властвует над ним. Сын ли это Добра, Зла или Небытия? Берите всех троих — и получите Троицу.
XXII
И было время, время юности и неведения, когда я мечтал о Боге, любви, счастье, думал о будущем, о родине. Сердце мое чаще билось тогда при слове «свобода»! Тогда — о, Творец должен быть проклят своими твореньями! Тогда явился мне Сатана и сказал: [35] Далее следует несколько измененный фрагмент из видения «Путешествие в Ад». Смысл его остался прежним, а изменения коснулись только стиля.
идем, идем же! Есть у тебя гордость в сердце и поэзия в душе, идем, я покажу тебе мой мир, мои владения.
И он увлек меня с собою, и я вознесся, подобно орлу, парящему в облаках.
И вот мы достигли Европы.
Здесь показал он мне ученых, писателей, женщин, фатов, палачей, королей, священников и ученых. Эти последние были безумнее всех.
И видел я, как брат убивал брата, мать продавала дочь, писатели лгали людям, священники предавали верующих, чума пожирала народы, и война снимала свою жатву.
Там интриган, змеею пластаясь в грязи, подползал к ногам великих и жалил их. Те падали, а он трясся от злобной радости, видя, что и благородные головы запятнаны грязью.
Там король тешился грязным развратом на фамильном ложе, где сыновья наследовали пороки отцов.
АГОНИИ
Странное название, не так ли? И, взглянув на эти строки незначительные и банальные, никто не усомнится в том, что в них нет серьезных мыслей.
— Агонии! Я думаю, это какой-то отвратительный и мрачный роман?
— Вы ошибаетесь, это история внутренней жизни, куда более отвратительной и мрачной.
Это нечто смутное, неопределенное, навеянное кошмарами, презрительным смехом, слезами и бесконечными грезами поэта.
Поэт? Могу ли я дать это имя тому, кто холодно с жестоким сарказмом и иронией все клянет и смеется, говоря о душе. Нет, это не поэзия, но проза, не проза, но крики. А в них — безумие, пронзительность, тайна, много правды и мало благозвучия. Это книга причудливая и неопределенная, как жуткие гротескные маски.
Скоро исполнится год, как автор написал первую страницу, и с тех пор несколько раз то оставлял этот печальный труд, то вновь принимался за него. Он писал эти страницы в дни сомнений, в минуты тоски, одни сочинял в ночной лихорадке, другие в разгаре бала, под лаврами в саду или на скалах у моря.
Всякий раз, когда смерть касалась его души, когда падал он с высоты, когда, словно карточный замок, разбивались и рушились иллюзии, всякий раз, наконец, когда нечто тягостное и волнующее вторгалось в его жизнь, внешне безмятежную и тихую, — тогда вырывались у него крики и лились слезы. Он писал, не заботясь о стиле, не желая славы, писал так, как другие непритворно плачут и искренне страдают.
Никогда не думал он печатать эти заметки — в них слишком много правды и убежденной веры в Небытие, чтобы открыть это людям. Он написал это для одного или двух друзей, [36] Первый друг, конечно, Альфред Ле Пуатвен, вторым же был, вероятно, Эрнест Шевалье (1820–1887), друг детства Флобера.
для тех, кто, поймет и не скажет, пожимая руку, «это хорошо», но скажет «это правда».
Наконец, если кто-то несчастный случайно потянется листать эти страницы — пусть остановится! Они жгут и сушат руку, прикоснувшуюся к ним, лишают зрения глаза их читающего, убивают душу того, кто понимает их.
Нет! Если кто-нибудь найдет эти листы — пусть остережется читать, а если это на беду случится — пусть не говорит, что это сочинение сумасшедшего, безумца, но пусть скажет: он страдал с невозмутимым лицом, с улыбкой на губах и счастьем во взоре. Пусть этот кто-то будет благодарен автору за то, что он многое скрыл, за то, что не покончил с собой прежде, чем написать все это, за то, что вместил в эти несколько страниц бездонную пропасть скептицизма и безнадежности.
Пятница, 20 апреля, 1838
I
Вновь я принимаюсь за труд, начатый два года назад, труд печальный и долгий. Долгая печаль — символ самой жизни.
Читать дальше
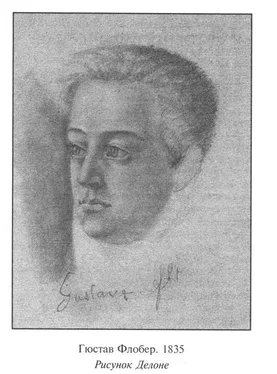



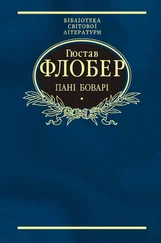
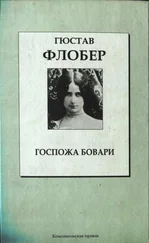

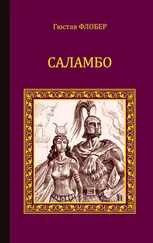
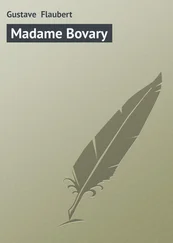
![Гюстав Флобер - Закат Карфагена [Сборник]](/books/414440/gyustav-flober-zakat-karfagena-sbornik-thumb.webp)
