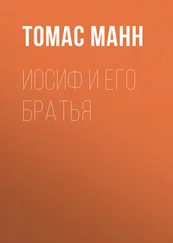Дружба между нежным потомком строителей пирамид и сыном Иакова, основа которой была заложена некогда в критской беседке, переросла за эти годы в такую сердечную близость, что молодой фараон называл Иосифа «дядюшкой», обнимал и похлопывал его по спине. Этот бог любил простоту, а Иосиф, по врожденной своей сдержанности, соблюдал в их дружбе вежливую дистанцию, часто смеша царя своей церемонностью даже в самые интимные минуты. Их отцовское невезение, то, что у одного родились лишь дочки, а у другого лишь сыновья, служило им не раз предметом бесед. Но недовольство его щитоносной девственницы и ее гневной матери не очень мешало Иосифу радоваться подраставшим у него на мирской чужбине внукам Иакова, а отсутствие престолонаследника редко в ту пору печалило фараона, пребывавшего в самом веселом расположении духа. Ведь в материнском царстве черноты все шло чудесно, так что его авторитет учителя отцовского света значительно укрепился, и он мог благоденствовать под сенью процветания, провозглашая бога, которого возлюбил душой и всячески, в беседах и в одиночестве, старался как можно лучше придумать.
Когда он так, уточняя и сравнивая, обсуждал с Иосифом священные свойства отца своего Атона, это напоминало богословско-дипломатические переговоры, которые когда-то проходили в Салеме между Авраамом и Мелхиседеком, священником Эль-эльона, всевышнего или даже единственного бога, и установили, что этот Эль совершенно то же или примерно то же лицо, что бог Авраама. И как раз тогда, когда беседа приближалась к подобному соглашению, придворная чопорность, от которой при общении со своим высоким другом Иосиф никогда не был вполне свободен, особенно заметно давала себя знать.
Женщина сидела у ног Иакова, богатого историями старика, в дубраве Мамре, что в столичном Хевроне или поблизости от него, в стране Канаан. Они часто сидели на этом месте — будь то в волосяном доме, у входа, там же, где отец когда-то сидел со своим любимцем и тот выманил у него разноцветное покрывало, будь то под деревом наставленья или у края соседнего колодца, где мы впервые, при луне, встретили этого хитрого мальчика и где, как мы видели, опираясь на посох, с тревогой искал его глазами отец. Почему же это, здесь ли, там ли, сидит с ним, подняв к нему лицо, женщина и слушает его речь? Откуда взялась женщина, молодая и строгая, которую так часто можно увидеть у его ног, и что же это за женщина?
Имя ее было Фамарь… Оглядывая лица наших слушателей, мы замечаем лишь на очень немногих, всего на нескольких, проблеск осведомленности. Подавляющее большинство тех, кто пожелал узнать все подробности этой истории, явно не знает или не помнит даже главных ее фактов. Нам следовало бы на это посетовать, — если бы такая общая неосведомленность не была, с другой стороны, приятна и на руку повествователю, так как придает его занятию большую важность, Вы, значит, и вправду не помните, то есть никогда, насколько вам известно, не знали, кто такая Фамарь. Сначала ханаанская женщина, туземка и больше никто, а потом сноха Иегуды, сына Иакова, четвертого отпрыска, внучатная, так сказать, невестка благословенного; но прежде всего его почитательница и его ученица в науке о мире и боге, ловившая каждое его слово и взиравшая на торжественное его лицо с таким благоговением, что сердце осиротевшего старика тоже широко открылось ей и он даже немного влюбился в нее.
Ибо в ней своеобразно смешались строгость и религиозная истовость (которой нам еще придется дать более сильное определение), с одной стороны, и душевно-телесная тайна астартической привлекательности, с другой, — а известно, до сколь преклонного возраста чутки к этим качествам натуры, с нежностью и достоинством преданные своим чувствам.
После смерти Иосифа, вернее, в силу этого душераздирающего и казавшегося сперва совершенно неприемлемым переживанья, Иаков стал еще величавее. Как только он свыкся со своей бедой, как только его спор с богом исчерпал себя, а жестокая воля этого бога проникла в его поначалу судорожно запершуюся от нее душу, она обогатила его жизнь, пополнила запас его историй, делая его задумчивость — если он впадал в задумчивость — еще выразительней, еще совершенней по живописности, чем она и всегда была, так что при виде ее люди благоговейно робели и шептали друг другу: «Глядите, Израиль вспоминает свои истории!» Выразительность поражает, с этим уж ничего не поделаешь. Связь, существующая тут, неразрывна, и выразительность, пожалуй, всегда немного старается поразить, но в этом нет ничего смешного, если дело идет не о пустом фиглярстве, а налицо подлинное богатство историями и выразительность говорит лишь о подлинно пережитом. Тогда уместна разве что почтительная улыбка.
Читать дальше
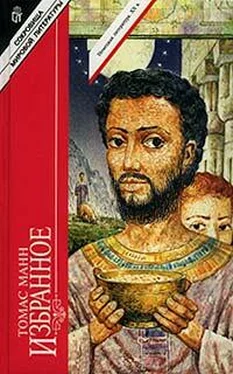

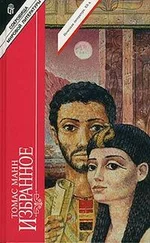




![Томас (Пауль Томас) Манн - Ранние новеллы [Frühe Erzählungen]](/books/176315/tomas-paul-tomas-mann-rannie-novelly-fruhe-erz-thumb.webp)