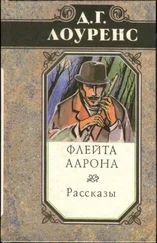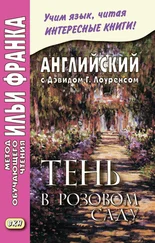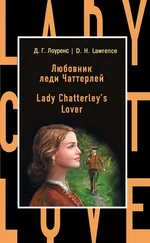О, и лань эта тоже была ее старой знакомой, она беседовала с ней, потому что колдунье ведом язык зверей, и рассказы животного были светлы, как само солнце.
Но однажды она по рассеянности и небрежности, так ей свойственной, оставила дверь своего убежища открытой и туда пролезли дети; Кэти порезала себе палец и стала громко плакать, а Билли поцарапал и повредил тонкие гравировальные резцы, чем нанес большой ущерб. Разразился скандал.
Гнев матери вскоре прошел. Урсула заперла мастерскую, считая, что гроза миновала. Но тут вошел отец с испорченными инструментами в руках; брови у него были нахмурены.
— Кто, черт возьми, открывал дверь в мастерскую? — гневно вскричал он.
— Урсула, — ответила мать.
Отец держал тряпку. Резко повернувшись, он с силой шлепнул девочку тряпкой по лицу. От саднящей боли Урсула на секунду замерла, ошеломленная. А потом упрямо замкнулась, лицо ее приняло холодное, отсутствующее выражение. Однако внутри у нее все горело от жгучей обиды. И к горлу невольно все сильнее подступали слезы.
Как она ни крепилась, слезы прорвали маску отчужденности: лицо странно исказилось; задыхаясь, она глотнула воздух, и слезы полились ручьем. Она выбежала, несчастная, обиженная, затаив в сердце упрямую жгучую злобу. Он проводил ее глазами, и удовлетворение смешивалось в нем с болью: ощущение победы, так легко достигнутой, тут же сменилось острой жалостью.
— Уж конечно, не стоило давать ребенку пощечину, — холодно заметила мать.
— От тряпки ничего дурного ей не будет, — сказал он.
— И хорошего — тоже.
Много дней и даже недель Урсула мучилась этой жгучей болью. Она чувствовала себя жестоко обиженной. Неужели он не знает, какая она обидчивая, как легко ее ранить, оскорбить? Знает как никто другой. Значит, он намеренно поступил так. Намеренно ударил ее по самому больному — по самолюбию, хотел унизить ее стыдом, оскорбить и тем нанести незаживающую рану.
Душу, как факел в ночи, жгло одиночество. Она не забыла, нет, не забыла и никогда не забудет. Когда любовь к отцу вернулась, вновь вступив в свои права, крошечный уголек недоверия и непокорства продолжал тлеть, подспудно, невидимо для глаз. Больше она не принадлежала ему всецело, безоговорочно. Медленно, медленно огонь недоверия и непокорства разгорался в ней, исподволь сжигая и подтачивая прочный остов близости.
В одиночестве она носилась по округе, воспылав страстью к движению и всему, что движется. Она полюбила ручейки. Найдя очередной ручей, она испытывала радость. Казалось, он заражал ее своим настроением, и ей тоже хотелось бежать и петь вместе с ним. Она могла часами просиживать у ручья или источника, примостившись на корнях ольхи, и глядеть, как торопится вода, как танцует она, подпрыгивая на камушках, как обтекает ветви и сучья поваленного дерева. Иногда, мелькнув, тут же исчезала невоплощенным призраком тень рыбки, иногда по берегу, у самой кромки его, прыгали трясогузки или прилетали напиться другие какие-нибудь птахи. Однажды, как синяя стрела, пролетел зимородок, наполнив сердце радостью. Зимородок распахнул ей двери в мир волшебства, он был стражем зачарованной страны.
Но пора было уходить от хитросплетений фантазии и заботливо выстроенного иллюзорного мира: иллюзорного мира ее отца, где он был Одиссеем, путником в стране реальности; иллюзорного мира бабки, так и оставшейся среди теней, где все было зыбким и далеким — крестьянские девушки с васильковыми венками на головах, сани, снежные сугробы, молодой чернобородый дедушка, их свадьба, война и смерть — действительность, превратившаяся в какие-то таинственные знаки; пора было уходить от собственных бесконечных фантазий — от того, что никакая она не Урсула Брэнгуэн, а польская графиня, колдовством перенесенная в Англию, уйти от миражей прочитанного, от красочных и цветистых иллюзий воображаемой жизни, утвердиться в реальности классической школы в Ноттингеме.
Она была застенчива и очень страдала от этого. Во-первых, она грызла ногти, а потом ужасно и непомерно стеснялась своих пальцев. Этот стыд стал для нее настоящим наваждением. Целыми часами она изводила себя, придумывая причину, почему она могла бы не снимать перчаток — говорить, что она ошпарила руки, или делать вид, что перчаток не сняла по рассеянности. Ах, если б только не проклятые ногти, не этот ужасный порок! Она так хотела быть безупречной, совершенной, без единого пятнышка порока, воплощением благородства и возвышенности! Огромным огорчением для нее стал их первый с отцом приезд в школу, то, как буднично отец это обставил, как вел себя на встрече Он был как всегда краток, в каждодневной своей одежде — костюм был непродуман и плохо на нем сидел А Урсуле-то виделось царственное облачение, представлялся торжественный церемониал этой встречи, вхождения ее в новое качество!
Читать дальше


![Дэвид Лоуренс - Lady Chatterley's Lover [С англо-русским словарем]](/books/26613/devid-lourens-lady-chatterley-s-lover-s-anglo-thumb.webp)