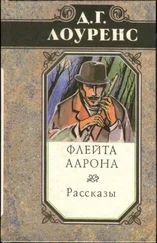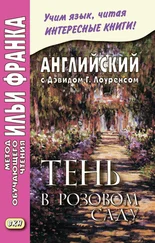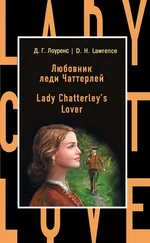И душа ее мгновенно ушла в пятки, когда чуть ли не на следующий день отец внезапно набросился на нее с криком:
— Кто затоптал все мои посадки, кто топал здесь, как слон? Я знаю, что это ты, негодная девчонка! Что, трудно было обойти? Обязательно надо было грядки топтать? Вот вечно ты так — ни о чем не думаешь, делаешь что в голову взбредет, а там будь что будет — своего добилась!
Душу совестливого работника возмутили и обескуражили зигзаги маленьких детских следов на грядках. Но ребенок был обескуражен еще больше. Ранимая детская душа была уязвлена и растоптана. Ну почему там остались эти следы? Ведь она не хотела ничего топтать! Она стояла, оглушенная болью, и стыдом, и нереальностью всего произошедшего.
Ее душа, все сознание, казалось, потухли в ней. Она замкнулась в себе, бесчувственное и неподвижное маленькое существо с душой ожесточившейся и безответной. Ощущение собственной нереальности сковывало холодом, как лютый мороз. Ей теперь было все равно.
А выражение ее лица, замкнутое и высокомерное в своем равнодушном самоутверждении, ужасно разозлило его. Ему захотелось сломить это выражение.
— Я выбью из тебя это упрямство! — прошипел он, стиснув зубы, и замахнулся на нее.
Лицо ребенка не дрогнуло. Выражение безразличия, безразличия полного, так, словно ничто в мире, кроме нее самой, ее не волновало, застыло на этом лице, оставаясь неизменным.
Но где-то в глубине души ее сотрясали рыдания, и когда он ушел, она забралась под диван в гостиной и предалась там скрытому и молчаливому детскому горю.
А выбравшись оттуда примерно час спустя, она с независимым видом отправилась играть. Она заставила себя забыть. Отрезала, отсекла от себя память об этом случае, так, чтобы боль и оскорбление перестали для нее существовать. Она отстаивала и утверждала одну себя. В целом мире не осталось ничего, кроме нее. Так, слишком рано уверовала она в то, что мир внешний злобен и настроен против нее. И очень рано убедилась, она, что даже ее обожаемый отец есть часть этого злобного мира. И очень рано научилась закалять свою душу сопротивлением всему, что снаружи, и отрицанием того, что снаружи, научилась укрепляться изнутри, довольствуясь осознанием своей самостоятельности и отдельности.
Она так и не раскаялась и не простила тех, кто сделал ее виноватой. Если бы отец сказал ей: «Урсула, это ты истоптала грядку, на которую я столько сил положил?», она, задетая за живое и огорченная, чего бы только ни сделала, чтобы искупить свою вину! Но ее все продолжала мучить нереальность очевидного. Ведь земля существует, чтобы ходить по ней. Почему же она должна огибать какой-то ее клочок только потому, что его прозвали грядкой? Земля создана, чтобы ступать по ней. Таково было инстинктивное убеждение девочки. И когда он так грубо набросился на нее, она, жестко отрубив всякую с ним связь, замкнулась в отдельном мире, управляемом ее ожесточенной и яростной волей.
Когда она подросла, став пяти-, шести- и семилетней, узы, связывающие ее с отцом, стали уже крепче.
Но от напряжения они всегда грозили оборваться. То и дело она по собственной воле яростно погружалась в свой отдельный мир. А рот отца горестно сжимался, потому что дочка была Уиллу все еще необходима. Но она с ожесточением замыкалась в своем мире, вселенной, ему недоступной.
Он очень любил плавать и в теплую погоду брал ее на канал, в какое-нибудь тихое местечко, или на большой пруд, или другой какой-нибудь водоем искупаться. Плавая, он сажал ее себе на спину, а она крепко прижималась, льнула к нему, чувствуя под собой сильные движения его крепкого тела, такого крепкого, что казалось, оно способно взвалить на себя груз целого мира. А потом он учил ее плавать.
Когда он позволял ей это, она не ведала страха. А его донимало странное желание напугать ее, посмотреть, сколько она с ним выдержит. Так он предложил ей нырнуть вместе с ним с моста над каналом, уцепившись за его спину.
Она согласилась. Он с наслаждением чувствовал, как ее голое тельце карабкается ему на плечи. И началась эта странная схватка двух воль. Он взобрался на парапет моста. Вода была далеко под ними. Но воля ребенка побуждала к действию его волю. Девочка приникла к нему.
Он прыгнул, они нырнули. Удар о поверхность воды, когда они прорезали ее, был так силен, что едва не лишил сознания девочку. Но она не ослабила хватки. И когда, вынырнув, они направились к берегу и потом, выбравшись на берег, уселись рядом на траве, он смеялся и говорил, что это было прекрасно. А странно расширенные глаза ребенка смотрели на него испытующе, непонятным взглядом, еще сохранявшим в себе испуг и изумление, но сдержанным и непроницаемым, так что смеялся он почти навзрыд.
Читать дальше


![Дэвид Лоуренс - Lady Chatterley's Lover [С англо-русским словарем]](/books/26613/devid-lourens-lady-chatterley-s-lover-s-anglo-thumb.webp)