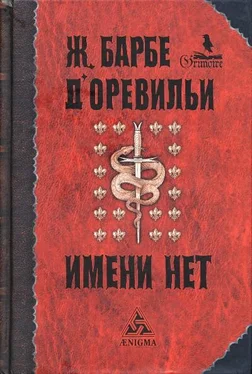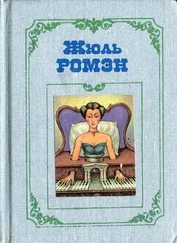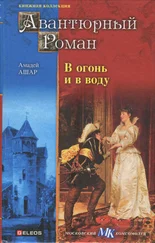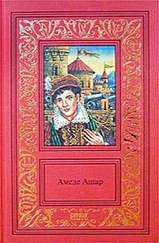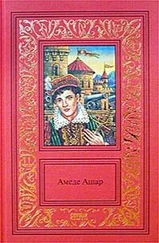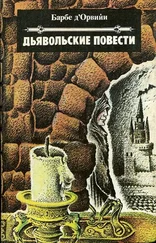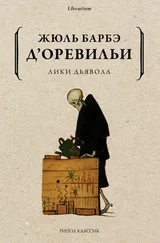Розальба открыла большой платяной шкаф и втолкнула меня в него. Думаю, нет на свете мужчины, который не побывал бы в каком-нибудь шкафу, ожидая появления мужа или официального покровителя.
— Тебе, надо сказать, повезло, что тебя отправили в шкаф, — усмехнулся Селюн. — Мне однажды пришлось пережидать в мешке из-под угля. Разумеется, было это до моей проклятой раны. Служил я тогда в белых гусарах. Сами можете представить, в каком виде я вылез из угольного мешка.
— Вот-вот, — с горечью подхватил Менильгранд, — все это последствия адюльтера и дележа женщины! В такую минуту даже бахвал забывает о гордости и, сочувствуя перепуганной бабенке, становится таким же трусом, как она, и так же трусливо прячется. Я думал, меня стошнит, когда я оказался в шкафу в мундире, с саблей на боку и — что уж верх нелепости! — не ради спасения чести, потому что спасать было нечего, и не во имя любви, потому что эту женщину я не любил!
Но я не успел всерьез прочувствовать всю унизительность своего положения, оказавшись, словно сопливый школяр, в потемках шкафа и ощущая прикосновение платьев, пьянивших запахом тела Розальбы. Разговор, который я услышал, помешал мне наслаждаться пьянящими ощущениями… Вошел фельдшер. Розальба не ошиблась, он был в прескверном настроении и, как она предупреждала, переживал приступ ревности, тем более неистовый, что перед нами никогда своей ревности не обнаруживал. Разозленный, полный подозрений, он, очевидно, наткнулся на письмо, оставшееся лежать на столе, адрес на нем так и не был написан, виной тому мои поцелуи.
— Что это за письмо? — спросил он с раздражением.
— Я написала в Италию, — спокойно ответила Стыдливая.
Но ни ответ, ни спокойствие его не обманули.
— Врешь! — рявкнул он; достаточно было чуточку поскрести лощеного Лозена, и под ним обнаруживался грубый солдафон.
По одному его слову я понял, как живут между собой эти двое, потчуя друг друга скандалами, с образчиком которого готовы были ознакомить и меня. Я и изучил его, сидя в глубине шкафа. Ни фельдшера, ни Розальбу я не видел, но слышал их, и этого было достаточно: они словно стояли перед моими глазами. Интонации и слова великолепно передавали происходящее, голоса звучали все громче, пока не достигли крайней степени ярости. Фельдшер настаивал, чтобы Розальба показала ему письмо без адреса, а Стыдливая, прижав к себе письмо, упрямо отказывалась. Тогда Идов решил завладеть им силой. Я слышал шуршанье платья, топот ног, беготню, и, сами понимаете, он оказался сильнее, отнял у Розальбы письмо и прочитал его. Она назначала свидание мужчине, письмо свидетельствовало, что этот мужчина был уже осчастливлен и ему вновь обещали счастье… Но мужчина не был назван по имени. Фельдшер, как все ревнивцы, пылал нелепым любопытством и требовал назвать имя того, с кем его обманывали. Стыдливая почувствовала себя отомщенной за насильно отнятое послание, которое вырвали из ее помертвевшей и, возможно, окровавленной руки, потому что я слышал крик: «Ничтожество! Вы поранили мне руку!» Для Идова это письмо оказалось лишней насмешкой, издевательством, он узнал из него только то, что знал и так: у его жены есть любовник — очередной! — и озлобился еще больше. Фельдшер дошел до той степени злобы, которая не служит чести мужчины, он осыпал Стыдливую площадной бранью, ругался грязно, как последний извозчик. Я думал, что он набросится на нее с побоями. Были и побои, но позже. Он упрекал ее — и какими словами! — за то, что она… была именно такой, какой мы ее знаем. Фельдшер был груб, грязен и отвратителен, Розальба отвечала ему так, как может отвечать женщина, которой нечего терять, которая до тонкости изучила сожителя и знает, что держит их в общей грязной постели не любовь, а ненависть. Она не марала себя грязной бранью, но в своем холодном стремлении оскорбить была куда более жестока и беспощадна, чем Идов в безудержной ярости. Она бесстыдно издевалась над ним, истерически хохоча, когда ненависть захлестывала ее до удушья, и на потоки грязи, которыми фельдшер обливал ее с ног до головы, отвечала, стремясь только подлить масла в огонь, довести мужа до безумия, дьяволица каждым своим словом раздувала его гнев, бросала в порох зажигательные снаряды. Из всех тщательно продуманных оскорблений, которыми Розальба язвила его, вернее всего действовало уверение, что она никогда его не любила. «Никогда! Никогда! Никогда!» — повторяла Стыдливая со свирепой радостью, словно бы отплясывая на его сердце и топча его каблуками. Мысль о том, что его никогда не любили, всего обиднее для самолюбия мужчины, чья красота одержала столько побед, всего оскорбительнее для избалованного фата, за чьей любовью неизменно стояло тщеславие. Настал миг, когда он, не выдержав безжалостно повторяемого слова «никогда», пытаясь от него заслониться и не желая ему верить, воскликнул:
Читать дальше