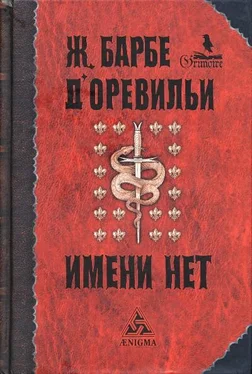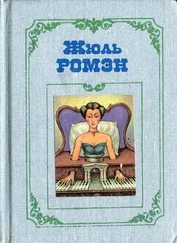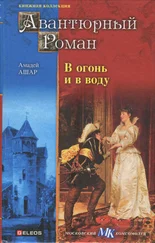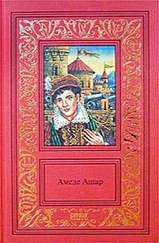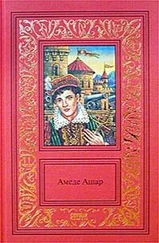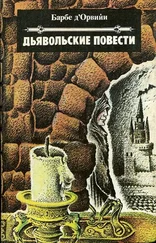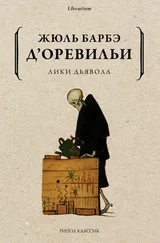Непроизвольный вскрик двух или трех дам прервал рассказчика, а между тем великосветские дамы давным-давно распростились с естественным проявлением чувств. Они успели забыть о непосредственности, но конец рассказа, пусть на миг, вернул им ее. Другие, лучше владеющие собой, только резко отшатнулись, но и это движение было почти конвульсивным, бессознательным.
— Что за непростительная забывчивость, — процедил со свойственным ему легкомыслием раздушенный и учтивый циник маркиз де Гурд, для которого все в жизни было лишь поводом для насмешки, — последний из маркизов, как мы его прозвали, отпускал шуточки, даже идя за гробом, и, наверное, будет смеяться, когда сам ляжет в гроб.
— Откуда взялся ребенок? — задал вопрос шевалье де Тарси, разминая табак в черепаховой табакерке. — Чей он был? Своей ли смертью умер? Или, быть может, его умертвили? Но кто? Вопросов множество, ответов нет, только самые ужасающие предположения, которые передавались шепотом.
— Вы правы, шевалье, ответа нет, — согласился я, старательно скрывая свои догадки, благодаря которым, как мне казалось, знал обо всем произошедшем немного больше, чем он. — Тайна останется тайной, и покров, становясь все непроницаемее, в один прекрасный день окончательно скроет ее, потому что не останется и желающих его приподнять.
— Только два человека в мире знают, что произошло на самом деле, но ни один из них не станет говорить, — прибавил де Тарси с кривой усмешкой. — Во-первых, Мармор де Каркоэл, уехавший в Индию с чемоданом, полным выигранного у нас золота. Больше он к нам никогда не вернется. А во-вторых…
— Во-вторых? — удивленно переспросил я.
— Во-вторых, — подмигнул мне шевалье, видимо считая, что сделал очень тонкое умозаключение, — тот, у кого оснований сказать нам правду еще меньше. Я имею в виду духовника графини. Вы его знаете, толстый аббат де Труден, тот, что — замечу в скобках — недавно получил кафедру в Байе.
Шевалье де Тарси упомянул аббата, а меня словно бы озарило — кажется, я наконец понял женщину, которую близорукий наблюдатель вроде Тарси назвал лицемеркой за то, что она свои страсти подчинила энергии воли, но… но ведь только для того, чтобы еще неистовее наслаждаться стихией страстей.
— Вы не правы, шевалье, — возразил я ему. — Даже близость смерти не могла приоткрыть дверь в душу женщины, достойной родиться в Италии в шестнадцатом веке. Графиня дю Трамбле де Стассвиль умерла точно так же, как жила. Увещевания священника не смогли проникнуть в ее наглухо замурованное сердце, свою тайну она унесла с собой. Если бы служитель вечного милосердия сумел растопить ее сердце и заставить раскаяться, то в жардиньерке в гостиной ничего бы не нашли.
Рассказчик закончил свою историю, тот самый, обещанный всем нам роман. Он передал лишь то, что знал: начало и конец. Взволнованные слушатели не спешили нарушить тишину. Все сидели задумавшись, дополняя собственной фантазией подлинный роман, о существе которого можно было лишь догадываться по нескольким уцелевшим подробностям.
В Париже остроумие мигом отправляет чувства за дверь, и тишина, воцарившаяся после рассказанного романа в гостиной, где так чтили искусство остроумной беседы, была высшей наградой рассказчику.
— Игра в вист стала еще увлекательней благодаря подоплеке, — проговорила баронесса де Сен-Альбан, жена посла, а стало быть, большая любительница карт, — показанный уголок карты вносит куда большее напряжение, чем игра в открытую, когда весь расклад известен наперед, так что вы рассказали истинную правду.
— Скорее, страшную фантазию жизни, — очень серьезно уточнил доктор.
— Житейские фантазии и музыкальные одинаковы, — взволнованно воскликнула мадемуазель Софи де Ревисталь. — Они впечатляют не аккордами, а умолчаниями.
Она взглянула на свою самую близкую подругу, надменную графиню де Даналья, сидевшую все так же прямо и по-прежнему покусывавшую свой веер слоновой кости с золотыми инкрустациями. Что говорила голубоватая сталь ее глаз? Я не видел их, но ее спина с бисеринками пота была, возможно, даже более красноречива. Похоже, и графиня де Даналья, подобно госпоже де Стассвиль, умела таить и страсти, и восторги.
— Вы отравили мне радость от цветов, а я их так люблю, — проговорила баронесса Маскранни, повернувшись к рассказчику. Потом отколола от корсажа и смяла ни в чем не повинную розу, рассыпав вокруг себя лепестки. — И вот уж точно чему пришел конец, — не без ужаса добавила, — так это резеде. Я ее больше не выношу!
Читать дальше