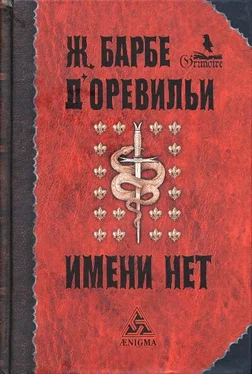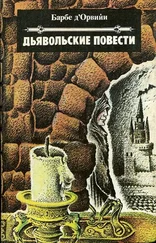— Как его зовут? Назови его имя! — в исступлении повторяла баронесса. — Лживая девчонка, я добьюсь ответа, вытяну проклятое имя у тебя из утробы вместе с твоим ублюдком!
Но Ластени, истерзанная ужасом и оскорблениями, ничего не отвечала, только глядела на мать широко раскрытыми пустыми мертвыми глазами. Прекрасные глаза цвета серебристых ивовых листьев навсегда потухли, с той поры никто ни разу не видел, чтобы они заблестели хотя бы в слезах, а слезы лились из них неиссякаемым потоком. Мадам де Фержоль так ничего и не добилась от Ластени ни тогда, ни потом.
С этой страшной ночи жизнь для обеих превратилась в ад, и с судьбой их не может сравниться ничья самая трагическая, мрачная, надрывающая душу судьба. В разыгравшейся истории неизвестным оставалось имя виновника, а уж всему случившемуся и вовсе имени нет! Мучительная, не ведомая никому драма разъедала жизнь двух несчастных женщин; родные по крови, связанные нерасторжимыми узами, они были неразлучны, но мать не знала материнских чувств, а дочь — дочерних, потому что обе не знали взаимного доверия и открытости. Как же дорого они расплачивались теперь за свою сдержанность и замкнутость! Как жестоко были наказаны! Глубочайший давний разлад таился в двух душах, разлад разрастался, а тайна сгущалась. Мадам де Фержоль стремилась скрыть даже от проницательной Агаты позорную беременность дочери, страшась огласки гораздо больше, чем Ластени, которая поначалу была уверена, что никакой беременности нет. Наивная девушка не сомневалась, что симптомы ее странной болезни лишь напоминают беременность. Уверенная, что мать чудовищно заблуждается, она старалась рассеять ее заблуждение — отчаянно сопротивлялась наветам, не сгибала головы, несмотря на непрестанные оскорбления и упреки. Только невинность обладает такой возвышенной стойкостью. «Придет день, и вы раскаетесь, что причинили мне столько горя, мама. Как же вы раскаетесь!» — говорила она тихо, с кротостью агнца, ведомого на заклание.
Будь она похожа на страстную, деспотичную, необузданную мать, то рычала бы, как львица. Но долгожданный день не приходил. Зато проходили другие дни. Мать, не знающая милосердия, не прощала и даже не помышляла о прощении, а дочь, оберегая свое достоинство, считала, что ее и не нужно прощать. Дни тянулись долгие, мрачные, тяжкие, полные муки. Из их беспросветной чреды выделился один, самый беспросветный. День, которого Ластени не ждала. День, когда она впервые ощутила движение плода — «первый удар пяточек», как радостно говорят счастливые матери, когда ребенок оповещает о своем существовании, а может быть, и предупреждает о предстоящих родовых муках. День, когда бедная девочка поняла, что заблуждалась не мать, а она.
Обе они по обыкновению сидели в нише у окна друг против друга, шили дрожащими руками, молча превозмогая нестерпимую душевную боль. В тот злосчастный день ярко светило солнце, его лучи ворвались, подобно сквозняку, в узкую прогалину между тесно стоящими вершинами, проникли в мрачную комнату и полоснули сидящих по шее ослепительным лезвием солнечной гильотины.
Внезапно Ластени прижала руку к животу и невольно вскрикнула. Мадам де Фержоль заметила полнейшую растерянность на ее опрокинутом лице, услышала, как она вскрикнула, и обо всем догадалась. Баронесса видела дочь насквозь.
— Ты его почувствовала, не так ли? Он шевельнулся. Теперь ты сама убедилась. И больше не станешь отпираться. Упрямица! Теперь ты не скажешь: «Нет!» Идиотское «нет»! Он там. — Положила руку на живот дочери рядом с ее рукой, она запальчиво продолжала: — Но кто виноват, что он там? Кто?! Кто?!
Безжалостный допрос возобновился. Мадам де Фержоль снова донимала несчастную Ластени, а ту нежданное открытие будто громом поразило: оказалось, что мать права! Подтверждалось самое худшее, и ослабевшая, сникшая девушка затравленно отвечала, что не знает. Сколько раз ее глупое упрямство выводило мать из терпения! До сих пор баронессе казалось, что дочь молчит, потому что ей стыдно; теперь Ластени до дна испила свой стыд. Ребенок толкался в животе, вот здесь, под их ладонями, отрицать беременность не имело смысла.
— Может быть, ты стыдишься не своей беременности, — в задумчивости проговорила она. — Раз по-прежнему молчишь, значит, еще больше стыдишься человека, которому отдалась.
Баронессе вдруг снова вспомнился монах, странный капуцин, и если суеверной Агате чудилось, будто он колдун, наславший порчу, мадам де Фержоль подозревала его в другом — она знала, что настоящую порчу насылает любовь, и сама страдала от этой порчи. Она считала вполне вероятным, что сейчас внезапно, как гром среди ясного неба, обнаружился плод любви, затаившейся под маской неприязни и отвращения… Но отогнала мысль о столь тяжком грехе, по ее мнению самом тяжком, коль скоро его совершил монах. Отогнала потому, что была уверена в праведности капуцина, а не потому, что полагалась на добродетель дочери. Баронесса знала по собственному опыту, что на девичью добродетель не следует полагаться. Она не решилась бы высказать вслух свое ужасное подозрение, держала его под спудом и страшилась его, но время от времени оно ледяным лезвием вонзалось в ее сознание, пугая и одновременно возбуждая невольное непреодолимое любопытство. Вот тогда мадам де Фержоль принималась жестоко мучить дочь, донимая все тем же вопросом, так что бедная девочка, едва живая от отчаяния и своей необъяснимой тягости, в конце концов совсем разучилась говорить и в ответ только плакала.
Читать дальше