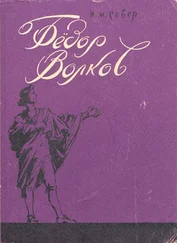Принял я свое пробуждение как светлое предзнаменование, а потому, хотя на это нет более никаких оснований (сейчас уже одиннадцать
390
вечера) все еще пишу с легкой надеждой, что Ты, быть может, как раз сейчас выезжаешь с Тверской на Николаевский и что мое письмо прервет внезапная телеграмма.
Работалось мне сегодня легко и ладно. Уверен, что экзамен в четверг пройдет очень хорошо. После него останутся еще шесть (приблизительно по одному в неделю) так что не позднее 10-го декабря мы с Тобою уже будем собираться обратно в свою Касатынь. Как тревожный сон отойдут в небытие воспоминания о первом, злосчастном месяце нашей разлуки и мы будем вместе смеяться не только над Твоею ревностью, Твоими предчувствиями, но быть может и над моими теориями. Знаешь, милая, иной раз мне кажется, что я под Твоим влиянием настолько уже переменился, что мне нужна не свобода, а только право на нее, и не реальная даль, и даже не даль в окне, а всего только её изображение на стене моей комнаты. Сдав экзамены и немного передохнув, сейчас же после Рождества сажусь за работу. Не могу Тебе сказать как я жду этого времени, как мечтаю о нем. За окном снежные просторы полей, за спиной на полках бесконечные дали человеческой мысли, а вблизи одна только Таленька, в драгоценном сердце которой все дали, просторы и пути разбегаются и сбегаются как солнечные дорожки в парке...
Только что пробило двенадцать. Через десять минут отходит курьерский. Хотя я в сущности и уверен, что Ты не едешь, я все же вижу
391
Тебя в купэ, — вижу чуть похудевшую со слегка оттененными утомлением скулами. Твои глаза под тревожно приподнятыми бровями скорбно горят расширенными зрачками и кажутся совсем, совсем темными, как у Константина Васильевича. Тебя провожает много народу; Ты как всегда со всеми мила и внимательна, но мне и отсюда слышно, как Ты взволнована, как рассеяна, как хочешь поскорее остаться одной.
Милая Ты моя детонька, ну зачем же, о чем же Ты тревожишься; не надо, родная, не надо. Как только тронется поезд, задергивай фонарь и ложись спать; не слушай стука колес, они всегда навевают уныние и не просыпайся рано; уж очень безрадостен октябрьский, петербургский рассвет...
Христос с Тобою, милая. Целую Тебя и иду спать. Завтра на всякий случай поеду встречать курьерский.
Покойной ночи, красавица.
Весь Твой Николай.
Р. 8. Только что приехал с вокзала, Наташа. Тебя, о чем, впрочем, сообщать не приходится, не встретил. Зато (хорошо зато!) нашел у себя на столе телеграмму. Так как Ты приезжаешь только в среду, то мне ничего не остается, кроме как радоваться тому, что Ты вообще приезжаешь. Если бы все дело было только в том, что Ты не можешь нарушить своего обещания Лидии Сергеевне, я бы беспрекословно подчинился
392
Твоему решению. Но дело, очевидно, не в этом: несмотря на все мои письма, Ты и в телеграмме повторяешь просьбу подробно написать Тебе о сегодняшнем свидании с Мариной. Хорошо, напишу. И можешь быть уверена, напишу с полною искренностью и с тою подробностью, о которой Ты просишь.
Но грустно и горько мне очень. Если бы не Петербург, тоже бесконечно скорбный сегодня, я был бы совсем одинок...
Ну до свиданья, Наташа.
Твой Николай.
Петербург 27-го октября 1913 г.
Не знаю, Наталенька, со страхом говорю, что не знаю, смогу ли Тебе описать вчерашний вечер. Был он о чем-то бесконечно сложном, трудном и уж очень... как бы Тебе это сказать... очень нашим с Мариною: — Таниным, Гейдельбергским, Виленским. Мир этот, конечно, есть и у Тебя в душе, но звучит в ней все же совсем, совсем иначе, чем в нашей с Мариною памяти.
Начну с признанья: я вышел из гостиницы в не совсем обыкновенном и даже больше — в несколько взволнованном настроении. В сердце растерянно метались слова Марининой записки, вдруг переставшей почему-то казаться простой, безобидной шуткой.
393
Не знаю, хорошо-ли Ты помнишь загадочный, бледный образ жены Росмера, больной, простой, но прозорливой женщины, самовольно ушедшей из жизни, скорее всего в припадкебольной тоски, но может быть и с мыслью — не мешать их любви?
Ну конечно, я и вчера отчетливо понимал, до чего вся аналогия только бред, только расшатавшиеся за последнее время нервы, и ничего больше; но, несмотря на ясность самосознания, я все же бредил, Наташа!
Шел по людному, вечернему Невскому, толкая по привычке прохожих, рассматривал грандиозные корзины с фруктами в огнях и цветах Елисеевских витрин, упорно нанимал ломивших дикую дену извозчиков на буланых, шведских лошадках, думал об экзамене и одновременно все-же бредил: — вертел в душе колесо каких то призрачно непонятных вопросов: почему Росмерсгольм... кажется-ли ей, что мы уже в Танины дни были в чем-то слишком вместе... думается ли, что Таня это чувствовала, думает ли что и Таня?.. Но как можно тогда играть Росмерсгольм, и что значит, что я иду... на репетицию?
Читать дальше