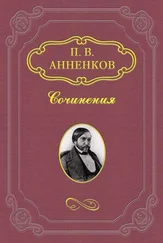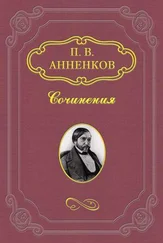Каждая эпоха создает свои мифы о прошлом. Мистификации не бывают случайными — в них отражается, иногда против воли мистификаторов, вкус времени, его запросы и стереотипы. Не П. П. Вяземский сделал Омер де Гелль заветной спутницей Лермонтова. Не он выдал в печать «Письма и записки…». Стареющий литератор-дилетант забавлялся, одурачив читателей и специалистов. Он сочинял авантюрный роман — и делал это не слишком умело: многие сюжетные узлы лишь намечены, об иных замыслах Вяземского можно только догадываться [23] Так, соблазнительно предположить, что фрагмент № 70 (о семье Наполеона) должен был послужить завязкой перспективного «бонапартистского» сюжета (героиня могла принять участие в заговоре или таковой разоблачить). Не менее любопытны зануднейшие письма о дебатах во французском парламенте вокруг сахарного производства, адресованные — неизвестно как появившемуся в жизни Омер де Гелль — Ф. В. Булгарину: есть искушение увидеть здесь начало «экономической авантюры», благодаря которой должен быть в который раз посрамлен Булгарин — несомненно, не только одна из самых одиозных фигур русской культуры, но и человек — по семейной памяти — глубоко неприятный П. П. Вяземскому.
. Конечно, без старческого эротизма не обошлось, как не обошлось и без элементарной писательской слабости (умея задумать эпизод и обставить его «натуральными» деталями, Вяземский, как всякий дилетант, абсолютно не владеет искусством композиции). Но было в «Письмах и записках…» и другое: память о литературной моде молодости (парижские главы кажутся окарикатуренным и раздробленным подражанием романам Бальзака), желание поведать о нравах Востока (П. П. Вяземский в конце 1840-х годов служил в Константинополе), своеобразная игра с отцовскими воспоминаниями (А. И. Тургенев был ближайшим другом и постоянным корреспондентом П. А. Вяземского; старый сибарит князь Тюфякин, дипломат Поццо ди Борго, члены семейства Демидовых — его знакомыми, описанными в «записных книжках»). Вяземский пародировал и невежественные суждения иностранцев о России и «обличительную» литературу о «далеком прошлом» (1820-1840-х годах), рисующую ту эпоху сплошь черной краской. Решая одновременно несколько задач, он не мог решить ни одной, видимо и сам временами не понимая, что же он пишет.
Был, впрочем, в сочинительском азарте Вяземского один неприятный мотив, на мой взгляд, более опасный, чем «старческий эротизм» [24] Во-первых, болезнь есть болезнь, а во-вторых; не всегда поймешь, где эротика, а где ее гипертрофированно-пародийный извод.
. Я бы назвал это «комплексом наследника». Павел Петрович с презрением относился к «копошению» биографов Лермонтова или Пушкина. Он, сын князя Петра Андреевича, знакомый обоих поэтов, про которых теперь громоздят небылицы (потому и понадобился внутренне язвительный пассаж о Пушкине, засекающем ямщиков, столь ошарашивший комментатора издания 1933 года), свидетель эпохи — он знает все. При такой установке легко смеяться над чужими нелепостями и их пародировать. За смехом и мистификацией стоит гордое сознание носителя абсолютной истины (синдром, сохраняющийся у многих, порой очень серьезных мемуаристов и по сей день). Истину эту все равно обыватели воспринять не в силах, а раз так, то… Многие мемуарные свидетельства Павла Вяземского ныне подвергаются сомнениям, хотя на чем-то же они основаны. Не исключено даже, что какие-то реальные факты натолкнули мистификатора на сюжет «Лермонтов и Омер де Гелль».
Такая гипотеза была высказана И. Гладыш в заметке «К истории взаимоотношений М. Ю. Лермонтова и Н. С. Мартынова (Неизвестная эпиграмма Мартынова)» [25] Русская литература, 1963, № 2, с. 136–137.
. Автором был обнаружен следующий текст:
Mon cher Michel
Оставь Adel…
А нет сил,
Пей эликсир…
И вернется снова
К тебе Реброва.
Рецепт возврати не иной,
Лишь Эмиль Верзилиной.
Под эпиграммой приписка, атрибутируемая Лермонтову: «Подлец Мартышка». По приписке устанавливается автор — будущий убийца поэта. Исходя из этого текста (с крайне неясной историей), И. Гладыш предполагает, что знакомство Лермонтова с Омер де Гелль («Adel» эпиграммы) все же имело место, а стало быть, сочинение Вяземского не беспочвенно.
Многое здесь вызывает сомнение. В особенности же то, что все лица, упомянутые в эпиграмме, либо присутствуют в опусе Вяземского, либо связаны с ним («Эмиль Верзилина» — известная нам Э. А. Шан-Гирей, урожденная Клингенберг, — названа здесь по фамилии отчима). Мне легче связать этот текст с мистификаторской работой Вяземского, чем увидеть в нем аргумент за историческую точность его публикации. Особенно если довериться упомянутому выше мнению французских исследователей, утверждающих, что Омер де Гелль была на Кавказе только в 1839 году.
Читать дальше