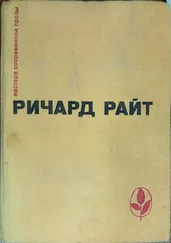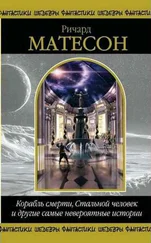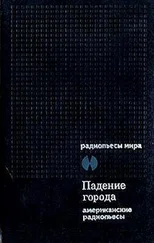Он теперь не ел; он просто проталкивал пищу в горло, не чувствуя ее вкуса, только чтобы не сосало под ложечкой от голода, чтобы не кружилась голова. И он не спал; просто иногда он на время закрывал глаза и потом снова открывал их, чтобы вернуться к своим думам. Ему хотелось освободиться от всего, что стояло между ним и его концом, между ним и страшным, беспощадным сознанием, что жизнь прошла и ничего не решено, не найден смысл, не связаны воедино противоречивые стремления.
Приходили к нему его мать, брат, сестра, но он просил их сидеть дома, не приходить больше, забыть его. Приходил черный проповедник, тот, который дал ему крест, но он его выгнал. Белый священник стал было его уговаривать помолиться, но он выплеснул ему в лицо чашку горячего кофе. После этого священник не раз приходил навещать других арестантов, но у его камеры больше не останавливался. Это дало Биггеру ощущение собственной значительности, почти такое же, как в вечер разговора с Максом. В том, что священник сторонился его и, может быть, задумывался над причинами, побуждавшими его отказываться от утешений религии, уже заключалось признание его личности на иных основах, чем это было обычно для священника.
Макс сказал ему, что поедет к губернатору, и больше он от него никаких известий не имел. Он не надеялся, что из этого выйдет что-нибудь; в своих мыслях и чувствах он относился к этому так, как будто оно совершалось где-то вне его жизни и не могло ни изменить ее, ни повлиять на ее исход.
Но ему хотелось увидеть Макса и еще поговорить с ним. Он думал о речи Макса на суде и с благодарностью вспоминал ее страстный, проникновенный тон. Суть речи ускользала от него. Но он верил, что Макс его понимает, и хотел перед смертью поговорить с ним еще раз, чтобы так ясно, как только можно, почувствовать смысл, заключенный в его жизни и в том, что он должен умереть. Это была единственная надежда, которую он берег. Если можно что-нибудь узнать твердо и наверняка, он должен узнать это сам.
Ему разрешалось писать три письма в неделю, но он не написал ни одного. Ему не с кем было поделиться и нечем, потому что он в жизни никому и ничему не отдавался душой, разве только убийству. Что он мог сказать своей матери, брату, сестре? Из старой шайки он дружил только с Джеком, и то никогда не был так близок с ним, как ему хотелось. А Бесси умерла; он убил ее.
Иногда, устав копаться в своих чувствах, он говорил себе, что это он неправ, он плохой. Если б он мог заставить себя в это поверить, это было бы решение. Но он не верил. Его чувства домогались ответа, которого не мог дать разум.
Он всегда острей всего жил, больше всего был самим собой, когда что-нибудь его затрагивало достаточно сильно, чтобы за это бороться; а сейчас, в этой камере, сильней, чем когда-либо, тревожила его неподатливая суть прожитой жизни. Но как прежде громоздилась перед ним белая глыба, так теперь черная стена смерти придвигалась все ближе с каждым пролетающим часом. И на этот раз уже нельзя было отбиться нанесенным вслепую ударом; смерть была противником иным и более сильным.
Он лежал на своей койке, а руки его беспокойно шарили по всему городу, стараясь в клубке человеческих жизней нащупать что-нибудь близкое к тлевшим в нем чувствам; он томился, он хотел знать. Он был одержим неистовым желанием слиться с окружающим миром, но он по-прежнему не знал как. Только его черное тело лежало на тюремной койке, покрытое потом агонии.
Если он – ничто, если это – все, почему же он не может умереть безколебаний? Кто он такой, что эта жажда знать доводит его почти доисступления? Почему в нем всегда живы непонятные стремления, если в мире нет ничего, что объяснило и удовлетворило бы их? Кем и чем определен для него этот беспокойный путь? Откуда это постоянное желание того, чего нет? Откуда эта черная пропасть между ним и миром: здесь – горячая красная кровь, там – холодное голубое небо, и нет ничего, что сочетало бы в себе все, дало бы ощущение единства, цельности, полноты?
Неужели это так? Неужели он обречен на это – чувствовать и не знать, искать и не находить? И в этом все, весь смысл, вся цель? В таких сомнениях и тревогах проходили минуты. Он похудел, глаза были налиты кровью, всей кровью тела.
Наступил канун последнего дня. Ему теперь особенно хотелось поговорить с Максом. Но что бы он ему сказал? Да, так оно получалось. Он не мог говорить об этом, потому что это не укладывалось в слова; и все-таки он жил этим все время, каждую секунду.
Читать дальше