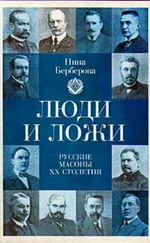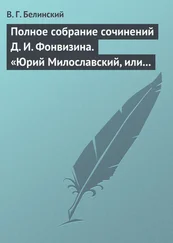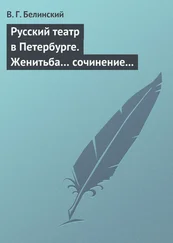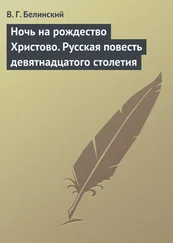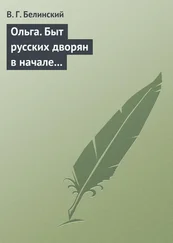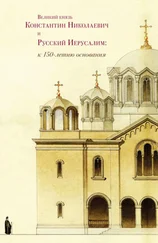— И я то же мекаю, Кондратьевна. Да вот хоть нынче ночью мне не спалось, — слышу, она щелкает орехи. «Откуда это у тебя, Настька, орешки-то завелись, а?» — спросила я. «Добрые, дескать, люди подали». А я себе думаю: «Врешь, проклятая, купила!» Ну, где слыхано, чтоб милостыню подавали калеными орехами!
— То-то и есть, Федосьевна: приемыш все приемыш! А мало ли я с ней горя натерпелась! Вот ровно четырнадцать годков, как ее в Петров день подкинули; я взяла ее на свои руки, ноченьки целые не спала; выкормила рожком, сколько денег на молоко поистратила, а вот тебе и спасибо!..
Тут подошла к избе безобразная девчонка в лохмотьях, сверх которых висел у нее через плечо на мочальной веревочке сплетенный из лыка кошель.
— А, это ты, Настька! — сказала Кондратьевна. — Поди-ка сюда, поди!.. Да постой, постой! — продолжала она, схватив ее за руку. — Куда ты?
— В избу, бабушка, погреться, — отвечала девочка Я вовсе окоченела.
— Вишь, барыня какая, — окоченела!.. Мы и старухи, да в избе не сидим.
— Да полно, бабушка, отцепись, — пусти!..
— Погоди, голубушка, не замерзнешь. Ты мне скажи, где ты до этой поры таскалась?
— Мало ли где: в Чертолье была, у Арбатских ворот, здесь, по Знаменке, ходила…
— А много ли выходила?..
— Да что, бабушка, — видно, уж такой день выдался: никто не подает.
— Так ты ничего не принесла?
— Ломтика четыре хлебца.
— Только-то? А что я тебе говорила: как пойдешь по Знаменке, зайди неотменно на двор к боярыне Марфе Саввишне Загоскиной?
— Заходила, бабушка.
— Так тебе и там ничего не подали?
— Ничего.
— Врешь, врешь, негодная!.. Кто другой, а Марфа Саввишна всегда подает. Она — дай Бог ей много лет здравствовать! — нищую братию любит.
— Да у них, бабушка, в дому что-то нездорово.
— Нездорово?
— Видно, что так. Я сначала зашла с переднего | крыльца, на крыльце стоит, пригорюнившись, дворецкий Сидор Иваныч. Бывало, он и сам всегда мне подаст, да еще по головке погладит, а тут как закричит: «Пошла, пошла, — не до тебя!» Вот я от него прочь да к девичьему крыльцу… постояла, постояла — никто нейдет. Думаю: взойду в девичью, мне не впервые. Взошла, гляжу — нянюшка Прокофьевна сидит да так и заливается слезами, на всех сенных девушках лица нет. Не дали мне словечка вымолвить: «Ступай, ступай! Бог подаст!..» — «Кормилицы, — сказала я, — доложите вашей барыне…» — «Куда докладывать! — молвила Прокофьевна. — До того ли ей теперь!» Да как вдруг завопит: «Ах ты, батюшка Hani, Данила Никифорович, снял ты со всех с нас голову!» А ключница Матрена — такая злющая, завсегда лается, как вскинется на меня: «Убирайся, говорят, а не то я тебя голиком! Пошла, пошла!» Так по шеям меня и выгнала. Да пусти же меня, бабушка, в избу-то: я вовсе прозябла.
— Постой, постой! Дай-ка мне свой кошель.
— Да на что тебе? В нем, окромя хлеба, ничего нет.
— Добро, добро, — прошептала Кондратьевна, — я посмотрю… Ломоть, другой, третий… А это что? — вскричала она, вынимая из кошеля медовую сосульку и пряничного конька с золоченой гривою. — Это что?.. Ах ты, воровка-мошенница этакая!
Симский, который слышал весь разговор, не стал дожидаться конца этому розыскному делу. Ему было вовсе не до того. Он любил своего дядю как отца родного, а если девочка говорила правду, так с Данилою Никифоровичем случилось какое-нибудь несчастие или он был при смерти болен. Несмотря на то, что на улице было еще очень тесно, Симский пустился бегом по Знаменке. Пробираясь между возов, он вышел кое-как на свободное место и с ужасною тоскою и замиранием сердца добежал наконец до обширного двора, посреди которого стояли длинные хоромы дяди его, заслуженного стольника Данилы Никифоровича Загоскина.
IV
Симский прошел всем двором, не встретив никого. В передней не было тоже ни души. Он вошел потихоньку в столовую; в этой комнате сидела под окном и горько плакала пожилая барыня, одетая по-домашнему: в штофной поношенной кофте и тафтяной юбке, которая была когда-то красного цвета. В то время давно уже вошли в употребление женские черевички, то есть башмаки; но эта барыня была обута, по старинному обычаю, в сафьянных сапожках, вышитых бисером. За поясом у нее висела связка ключей, а на голове надета была круглая бархатная шапочка с меховым околышем.
— Ах, друг мой сердечный, — вскричала барыня, — Васенька!
— Здравствуйте, тетушка! — сказал Симский торопливо. — Что дядюшка?
Марфа Саввишна всплеснула руками, ухватилась за шею племянника и, опустив голову на его плечо, громко зарыдала.
Читать дальше