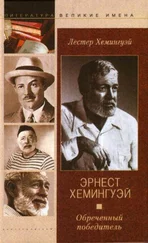Он (Скотт Фицджеральд) с некоторым пренебрежением, но без горечи говорил обо всем, что написал, и я понял, что его новая книга, должно быть, очень хороша, раз он говорит без горечи о недостатках предыдущих книг. Он хотел, чтобы я прочел его новую книгу «Великий Гэтсби», и обещал дать ее мне, как только ему вернут последний и единственный экземпляр, который он дал кому-то почитать. Слушая его, нельзя было даже заподозрить, как хороша эта книга — на это указывало лишь смущение, отличающее несамовлюбленных писателей, создавших что-то очень хорошее, и мне захотелось, чтобы ему поскорее вернули книгу и чтобы я мог поскорее ее прочесть.
Странно вспоминать, что я думал о Скотте как о писателе старшего поколения, но в то время я еще не читал его роман «Великий Гэтсби», и он казался мне гораздо старше. Я знал, что он пишет рассказы для «Сатердей ивнинг пост», которые широко читались три года назад, но никогда не считал его серьезным писателем. В «Клозери-де-Лила» он рассказал мне, как писал рассказы, которые считал хорошими — и которые действительно были хорошими, — для «Сатердей ивнинг пост», а потом перед отсылкой в редакцию переделывал их, точно зная, с помощью каких приемов их можно превратить в ходкие журнальные рассказики. Меня это возмутило, и я сказал, что, по-моему, это проституирование. Он согласился, что это проституирование, но сказал, что журналы платят ему деньги, необходимые, чтобы писать настоящие книги. Я сказал, что, по-моему, человек губит свой талант, если пишет хуже, чем он может писать. Скотт сказал, что сначала он пишет настоящий рассказ и то, как он потом его изменяет и портит, не может ему повредить. Я не верил ему и хотел переубедить его, но, чтобы подкрепить свою позицию, мне нужен был хоть один собственный роман, а я еще не написал ни одного романа. С тех пор как я изменил свою манеру письма и начал избавляться от приглаживания и попробовал создавать, вместо того чтобы описывать, писать стало радостью. Но это было отчаянно трудно, и я не знал, смогу ли написать такую большую вещь, как роман. Нередко на один абзац уходило целое утро.
Тридцатые годы (1932–1936)
Из книги «Смерть после полудня»
Помню, как Гертруда Стайн, говоря о бое быков, восхищалась Хоселито и показала мне фотографии, на которых она снята вместе с ним в Валенсии: она сидит в первом ряду, подле нее Анна Токлас, под ними, на арене, — Хоселито и его брат Галло, а я тогда только что приехал с Ближнего Востока, где греки, прежде чем оставить Смирну, сталкивали с пристани в мелкую воду своих тягловых и вьючных животных, предварительно перебив им ноги, и, помнится, я сказал, что не люблю боя быков, потому что мне жаль несчастных лошадей. В то время я начинал писать, и самое трудное для меня, помимо ясного сознания того, что действительно чувствуешь, а не того, что полагается чувствовать и что тебе внушено, было изображение самого факта, тех вещей и явлений, которые вызывают испытываемые чувства. Когда пишешь для газеты, то, сообщая о каком-нибудь событии, так или иначе передаешь свои чувства; тут помогает элемент злободневности, который наделяет известной эмоциональностью всякий отчет о случившемся сегодня. Но проникнуть в самую суть явлений, понять последовательность фактов и действий, вызывающих те или иные чувства, и так написать о данном явлении, чтобы это оставалось действенным и через год, и через десять лет — а при удаче и закреплении достаточно четком даже навсегда, — мне никак не удавалось, и я очень много работал, стараясь добиться этого. Войны кончились, и единственное место, где можно было видеть жизнь и смерть, то есть насильственную смерть, была арена боя быков, и мне очень хотелось побывать в Испании, чтобы увидеть это своими глазами. Я тогда учился писать и начинал с самых простых вещей, а одно из самых простых и самых существенных явлений — насильственная смерть. Она лишена тех привходящих моментов, которыми осложнена смерть от болезни, или так называемая естественная смерть, или смерть друга, или человека, которого любил или ненавидел, — но все же это смерть, это нечто такое, о чем стоит писать. Я читал много книг, в которых у автора вместо описания смерти получалась просто клякса; по-моему, причина кроется в том, что либо автор никогда близко не видел смерти, либо в ту минуту мысленно или фактически закрывал глаза, как это сделал бы тот, кто увидел бы, что поезд наезжает на ребенка и что уже ничем помочь нельзя.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу