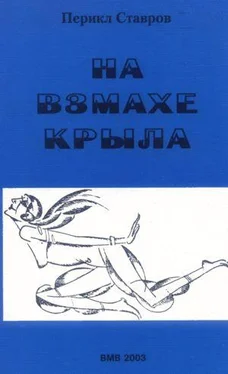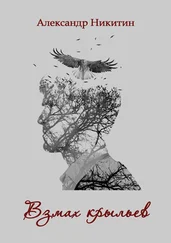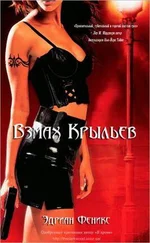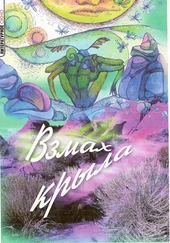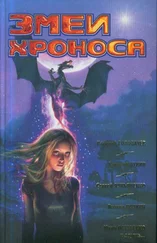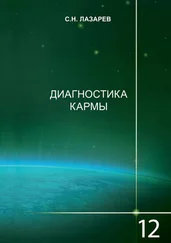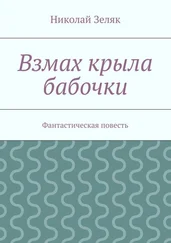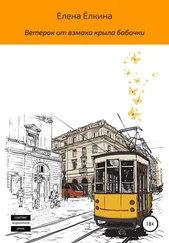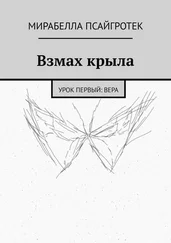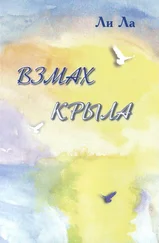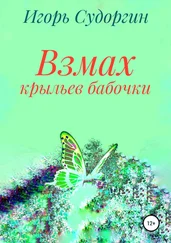Да, правда, кроме страсти к поэзии, имел он еще и другую страсть — к птицам и рыбам. Птичьими клетками была всегда заставлена его комната, а рыб он держал в ванне, доверху наполненной водой. После поэзии обычной темой его разговоров была меновая торговля птицами и рыбами. Умер он 37–38 лет от роду от тяжелого гриппа, осложнившего мучившую его всю жизнь астму. Как говорил мне проездом в Париж тоже ныне покойный Ильф, перед смертью Багрицкий цитировал когда-то написанные строки, передававшие его ощущения удушья: «В раскрывшихся глазах мелькают только птицы».
Вот образ другого безвременно (кажется, 22 лет) погибшего поэта, Анатолия Фиолетова (А. Шора), В месяцы февральской революции, когда вся Россия митинговала на улицах и площадях, поэт с полудетским лицом, склонивши голову немного набок, по-детски важно скандировал ставшее потом очень популярным четверостишие:
О, сколько самообладания
У лошадей простого звания,
Не обращающих внимания
На трудности существования
— писал стихи о лошадях, о детях, об Оливере Твисте.
В эпоху Керенского студенты были мобилизованы, чтобы заменить старорежимную полицию. Я, например, был чем-то вроде околоточного надзирателя. Фиолетов стал инспектором уголовного розыска, да так там и остался при всяких сменах власти. Стал настоящей полицейской ищейкой. Но лирические стихи писать продолжал. Он был убит наповал (пуля попала в сердце) на так называемом Толкучем рынке налетчиком из банды, за которой, очевидно, не в меру охотился.
За несколько дней до смерти инспектор уголовного розыска А. Шор в загаженном, заплеванном помещении полицейского участка читал мне свое последнее стихотворение:
Не архангельские трубы,
Деревянные фаготы
Пели мне о жизни грубой,
О печалях и заботах…
А кончалось стихотворение удивительным, почти сверхъестественным предчувствием:
Не скорбя и не ликуя,
Ожидаю смерти милой,
Золотого аллилуйя
Над высокою могилой…
Тогда же Фиолетов (Шор) говорил, что хочет все бросить и бежать в сказочную страну — Индию…
Не хочется закончить статью на грустных воспоминаниях о поэтах, гибель которых мне известна. Вспоминается фигура пришедшего в наш город замечательного чудака — поэта Чичерина, Ликсей Миколаевича (как он сам произносил свое имя и отчество). Статный красивый человек, зиму и лето в легкой парусиновой блузе, в сандалиях на босу ногу. Чичерин пешком обходил всю Россию, изучая и собирая все народные говоры, чтобы проникнуть в самую глубь речевой стихии русского народного языка. У меня сейчас под рукой его сборник «Плафь» — фонетическое воспроизведение слова «Плавь» (сплав). Обычной орфографии Чичерин не признавал, так как служит она для передачи слов — мыслей, его же интересовала самая фонетика слова. Поэтому он придумал массу дополнительных знаков, долженствующих передавать звуковые оттенки речи. Понять сейчас его «заумные» произведения почти невозможно — но что за удовольствие было его самого слушать! Почти не понимая смысла, слушатель как бы сопереживал творческую эмоцию поэта и, казалось, проникал вместе с ним к самым истокам русского говора, русской речевой стихии. Голос у него был замечательный. Читал он и стихи Пушкина, Баратынского, Лермонтова, Мандельштама.
Помню, начинал он задумчиво-грустно, в медленном темпе:
Я изучил науку расставанья
В простоволосых жалобах ночных,
Бегут часы, и длится ожиданье,
В полночный час вигилий городских…
— и переходил потом в надрывающий душу напевный речитатив:
О, нашей жизни скудная основа!
Куда как беден радости язык,
Что было встарь, то повторится снова,
И сладок нам лишь узнаванья миг.
(О. Мандельштам)
Никогда не забуду лица молодого скульптора Г., слушающего Чичерина. По лицу этому катились слезы умиления и грусти. Поистине, мы «дети страшных лет России». Разве в мирное, беззаботное время, в «года глухие» будет взрослый человек плакать, слушая лирические стихи?
«Новое русское слово», Нью-Йорк, 23.01. 1949.
— Дайте мне десять франков, — говорит, не здороваясь, Юрий Олеша, низкий, приземистый, с проседью на висках.
Мы стоим у маленькой, в три ступеньки, лестницы уходящего ввысь кирпичного здания, крыша скрывается в лунном небе.
У меня немного больше десяти франков, и надо сообразить, как бы их не дать, чтобы не рассориться.
Читать дальше