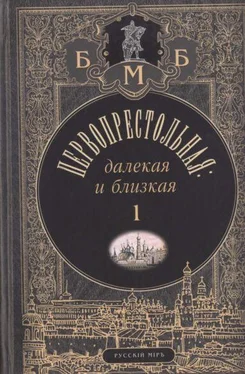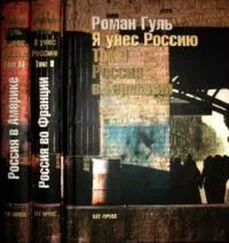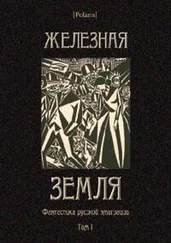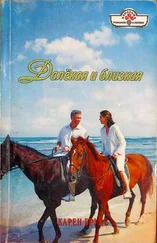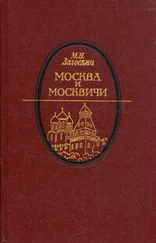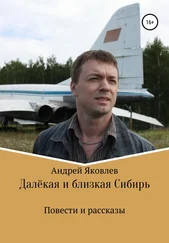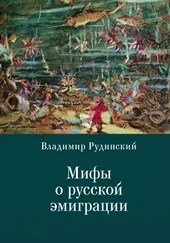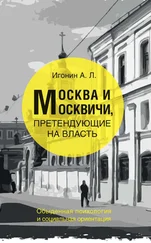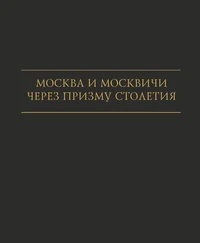Такой столицы — созданной совокупным гением эмигрантских мастеров слова, образа и сюжета — мы доныне не ведали. Знали дореволюционную, советскую, даже запечатленную иностранцами («имагологическую») — но не увековеченную в беженском ностальгическом слове (вернее, Слове). И если читатель, ознакомившись с книгой, согласится-таки с этим нескромным тезисом, значит, наш труд был не только и не столько компилятивным, сколько… Впрочем, последнее и решающее слово за читателем.
Мы же позволим себе слово предпоследнее, не самое радужное.
«…Как в Москве, что была на иной планете нашей жизни, когда Слово не было еще растоптано, а честность и доброта были совсем неудивительной повседневностью…»
Да, Константину Бальмонту снились в Париже «московские» сны. И это не художественная фигура, не заманчивая для психоаналитиков причуда поэта — десятилетиями (читайте письма и мемуары) снились схожие сны в разных странах и другим эмигрантам. Любезные соотечественники, обожающие постмодернизм, «сны разума» и сонники, спросите как-нибудь себя втихомолку и честно: знакомы ли вам такие ночи и такие видения?
Наверное, этими бальмонтовскими, и не только бальмонтовскими, грезами — или их отсутствием — многое — увы, даже слишком многое — в значительной мере объясняется, причём вовсе не по Фрейду. Объясняется не только существование выдающегося феномена культуры — Московианы изгнания, но и вчерашняя наша история, и сегодняшняя наша явь.
М. Д. Филин
Александр Дроздов
Московское
Небо ровное, цвета осенней конопли — потому, что скоро встанет солнце, московское зимнее солнце, блестящее, как утренний самовар, что часом-двумя позже раздуют купецкие кухарки в парных купецких кузнях. Ещё светло и не светло, а фонари теряют силу; серебряным светом, будто стеклянная, горит раскидистая шапка Христа Спасителя; на кремлёвских стенах, на скелетах деревьев висит иней, как сеть.
На Предтеченском бульваре, где примят и вдавлен в снег песок, пригоршнями раскиданный вчера бородатыми дворниками, вяло ходят уличные девы, в бабьих обжимках, в красных бабьих платках, и толкают в бока задремавших на скамьях пообмёрзших бездомников. Скоро солнце зажжёт ослепшие окна; уже тенькает на Арбате трамвай, заспанный вагоновожатый в кожаных рукавицах тупо глядит на промёрзшие рельсы и в тоске по тёплой всклокоченной постели бранит занявшийся день. У Иверской чисто, как глаза детские, светятся свечи болеющих духом, обиженных, мятущихся, страшащихся страха Господня. Тоненькая барышня в полушубке, отороченной барашком, скрестив у пояса ручки в варежках, стоит и синеет от холода: вчера ей вышло место в Окружном суде, она дала обет — простоять у Иверской три ночи кряду.
Утро занялось, вылезло жёлтое солнце, скованное лёгким морозцем, бодрое — будто замоскворецкий купчик после богатырского сна вышел в лабаз — и пальнуло в глаза, завеселило, зажгло радостью лица и окна, начищенные кирпичом ручки дверей и кольца дуг. На жужжащем моторе мчится до дому загулявшая компания: что за ночь!.. были в «Стрельне» [1] «Стрельни» — модный загородный ресторан. Как писал В. А. Гиляровский, «„Стрельна“, созданная И. Ф. Натрускиным, представляла собой одну из достопримечательностей тогдашней Москвы — она имела огромный зимний сад. Столетние тропические деревья, гроты, скалы, фонтаны, беседки и — как полагается — кругом кабинеты, где всевозможные хоры» ( Гиляровский В. А. Москва и москвичи. М., 1968. С. 331). Прим. сост.
, среди тропических пальм, под гнусавы цыганского хора, под смех венгерского, под разливанную грусть русского! Что за утро!.. в «Молдавии» [2] «Молдавия» — ресторан «в Грузинах, где днём и вечером была обыкновенная публика, пившая водку, а с пяти часов утра к грязному крыльцу деревянного голубовато-серого дома подъезжали лихачи-одиночки, пары и линейки с цыганами. Это был цыганский трактир. После „Яра“, „Стрельны“ и „Эльдорадо“ цыгане, жившие в Грузинах, приезжали сюда „пить чай“, а с ними и их поклонники» (Гиляровский В. А. Указ. соч. С. 333–334) . Прим. сост.
, где цыганки, осоловевшие после шампанского и привычного ночного разгула, с полинявшими смуглыми лицами похваляются одна перед другой новенькими хрустящими сотенными!
А на запорошенной набережной, за Христом Спасителем, где не слышно хруста полицейского сапога, гимназисты, «синяя говядина», сходятся на кулачки с реалистами, скидывают ранцы и засучивают рукава.
Читать дальше