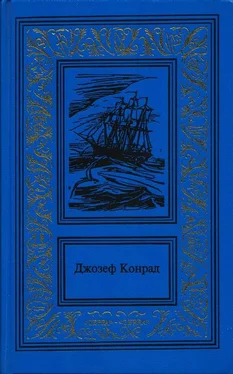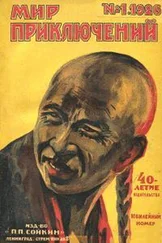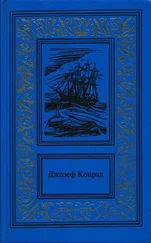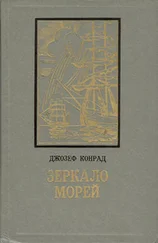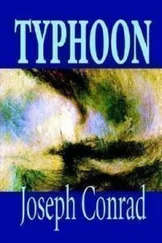Через год или около того Лингард, часто сталкивавшийся по делам с Олмэйром, вдруг проявил внезапное и совершенно необъяснимое для посторонних пристрастие к молодому человеку. Он расхваливал его по вечерам за стаканом вина своим собутыльникам в Сунда-Отеле, а в одно прекрасное утро как громом поразил Винка, объявив, что ему нужен «этот малый — вроде как бы в старшие конторщики; пусть исполняет за меня всё бумагомаранье!» Гедиг согласился. По свойственной молодежи страсти к переменам, Олмэйр ничего не имел против и, уложив свои скромные пожитки, отправился на «Молнии» в одно из продолжительных плаваний, во время которых старый моряк объезжал чуть ли не каждый островок архипелага. Проходили месяцы, а симпатия Лингарда к Олмэйру все усиливалась. Нередко, прогуливаясь с Олмэйром по палубе, когда легкий ночной ветерок, пропитанный душистыми испарениями островов, тихонько гнал бриг вперед под мирно сверкающим небом, старый моряк открывал душу своему восхищенному слушателю. Он говорил о прожитой жизни, об избегнутых опасностях, о громадной прибыльности своего ремесла, о новых комбинациях, которые должны были доставить ему в будущем еще более грандиозные барыши. Часто он упоминал и о своей дочери, девочке, найденной на разбойничьем судне, со странным оттенком отцовской нежности.
— Теперь она уж взрослая девица, должно быть, — говаривал он. — Скоро четыре года, как я ее не видел! Будь я проклят, Олмэйр, если мы на этот раз не забежим в Сурабайю, — И после такого заявления он всегда спускался к себе в каюту, бормоча под нос: — Надо что-нибудь сделать, что-нибудь сделать.
Не раз, к большому изумлению Олмэйра, он быстро подходил к нему, звучно откашливался, как будто собираясь что-то сказать, а потом вдруг отворачивался, молча опирался на борт и принимался неподвижно созерцать блеск и сверканье фосфоресцирующего моря вокруг корабля. Вечером, накануне прибытия в Сурабайю, такая попытка конфиденциального разговора, наконец, завершилась успехом. Откашлявшись, Лингард заговорил — и заговорил о деле. Он предложил Олмэйру жениться на его приемной дочери.
— И не вздумай брыкаться оттого, что ты белый! — вдруг закричал он, не давая изумленному юноше вымолвить ни слова. — Без глупостей у меня! Никто не разглядит цвета кожи твоей жены под долларами. А долларов станет еще больше, прежде чем я помру, — помни это! Их миллионы будут, Каспар, миллионы! И все достанется ей — и тебе, если сделаешь как тебе говорят!
Пораженный внезапным предложением, Олмэйр с минуту колебался и молчал. Он одарен был сильным и живым воображением, и в этот короткий промежуток времени ему представились большие груды ослепительно сверкающих червонцев и все возможности привольного существования: почет, беспечная легкость жизни, для которых он чувствовал себя созданным, собственные суда, собственные склады, собственные товары (старик Лингард ведь не вечен). В довершение же всего в дали грядущего сиял, словно волшебный дворец, большой дом в Амстердаме, этом земном раю его грёз, где он доживет остаток дней своих в несказанном блеске, высоко вознесенный над людьми силой лингардовского золота. Что же касается до оборотной стороны медали — пожизненного общения с малайской женщиной, этим наследием пиратского корабля, — то только смутно проснулось в нем чувство стыда, что он, белый человек… Впрочем, четыре года монастырского воспитания… да наконец, бог милостив, — она, может быть, догадается умереть. Он всегда был удачлив, а деньги — великая сила. Надо решаться! Почему бы и нет? У него было смутное намерение не приобщать жену к своей блестящей карьере, запереть ее где-нибудь, все равно где… В конце концов нетрудно отделаться от жены-малайки; для его европейского сознания она все-таки оставалась простой рабыней, наперекор всем монастырям и церковным обрядам…
Он поднял голову и взглянул на разгневанного, но робеющего в душе моряка.
— Я… разумеется… все, что прикажете, капитан Лингард.
— Зови меня отцом, как она, мой мальчик, — сказал, смягчаясь, старый авантюрист. — Но провалиться мне на месте, если я не думал, что ты собираешься отказаться. Только знай, Каспар, что я всегда на своем поставлю, твое упорство ни к чему не приведет. Впрочем, ты не дурак.
Олмэйр хорошо помнил эту минуту, взгляд, выражение лица, слова и всю окружающую обстановку. Он помнил узкую, слегка наклонную палубу брига, дремлющий в безмолвии берег, черную поверхность моря и широкую золотую полосу, брошенную на нее восходящим месяцем. Он помнил все это и помнил также свое ощущение безумного ликования при мысли о доставшемся ему богатстве. Он не был дураком тогда, не был дураком и теперь. Просто обстоятельства сложились неудачно; богатство исчезло, но надежда все же оставалась.
Читать дальше