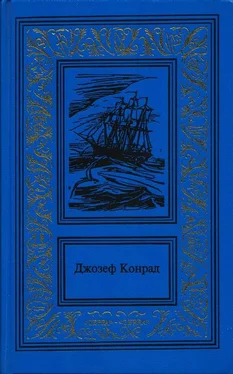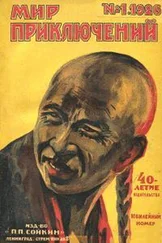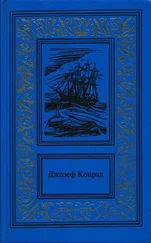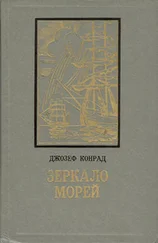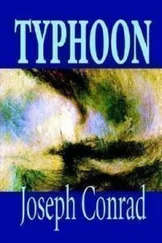Легкий ночной ветерок потихоньку гнал бриг к югу, и громадное зарево пожара все уменьшалось и уменьшалось. Наконец оно блеснуло на горизонте заходящей звездочкой, потом и она закатилась. Тяжелый полог дыма несколько времени еще отражал отблеск невидимого пламени; затем исчез и он.
Девушка поняла, что прежняя жизнь ее кончилась в ту минуту, как погасло это отдаленное пламя. Ей предстояла отныне неволя в чужом краю, среди незнакомых людей, в неведомых, может быть ужасных условиях. Ей было четырнадцать лет; она ясно сознавала свое положение, а потому быстро пришла к выводу, единственно возможному для малайской девушки, рано созревшей под лучами тропического солнца; кроме того, она знала цену своей красоте, — недаром многие юноши-воины из отряда ее отца так восхищались ей. Ее страшила только неизвестность; помимо этого, она, со свойственной ее народу покорностью, примирилась со своей участью, даже сочла ее чем-то вполне естественным; ведь она была дочерью воина, взята была с бою и по праву принадлежала радже-победителю. Она думала даже, что явное благоволение грозного старика объясняется тем, что он восхищен своей пленницей, и польщенное тщеславие облегчило ей первые порывы горя от постигшей ее страшной беды. Если бы она знала, что ее ожидают тихие сады и молчаливые инокини Самарангского монастыря, она, может быть, попыталась бы убить себя, таким ненавистным и страшным показалось бы ей подобное затворничество. Но воображение рисовало ей обычную участь малайской девушки, обычную череду тяжелой работы и дикой любви, золотых украшений, интриг, домашней страды и того великого, хотя и тайного влияния, которое составляет одно из немногих прав полудикой женщины. Однако в суровых руках старого мореплавателя, действовавшего под наитием безотчетных сердечных порывов, судьба ее приняла странный и ужасный для нее оборот. Она все вынесла спокойно и кротко — и затворничество, и ученье, и новую веру, скрывая свою ненависть и свое презрение к этой новой жизни. Она легко научилась чуждому ей языку, но ничего не поняла в новой вере, в которой наставляли ее добрые монахини, быстро усвоив из нее только элементы религиозного суеверия. Во время кратких и шумных визитов Лингарда она нежно ласкалась к нему, называя его отцом, потому что видела в нем грозную силу, которую необходимо задобрить. Ведь он был теперь ее господином! И в течение всех этих долгих четырех лет она лелеяла мечту стать угодной пред очами его, чтобы сделаться впоследствии его женой, советчицей и руководительницей.
Эти мечты о будущем были разрушены повелительным «fiat» [3] Латинское слово: «да будет» — означает пожелание и приказ.
раджи Лаута, сулившим Олмэйру счастье, как это казалось молодому человеку. И одетая в ненавистное ей европейское платье, юная малайка пошла под венец с незнакомым, угрюмым на вид, белолицым мужчиной, привлекая к себе любопытство всего батавского общества. Олмэйру было неловко, слегка неприятно и очень хотелось сбежать. Благоразумный страх перед тестем и забота о своем благополучии удержали его от скандала; но, принося перед алтарем клятву в верности, он уже раздумывал о том, как бы отделаться от красавицы-малайки в более или менее близком будущем. Она же, со своей стороны, из всего монастырского обучения запомнила только то, что по закону белых людей она становилась подругой, а не рабой Олмэйра, и намеревалась вести себя соответственно.
Потому-то на «Молнии», когда она покидала Батавский рейд, увозя с собой молодую чету и груз строевого леса для сооружения нового дома на незнакомом Борнео, вовсе не царило любви и счастья, как хвастливо уверял старик Лингард своих случайных друзей на верандах различных гостиниц. Зато сам старый моряк был счастлив совершенно. Он исполнил свой долг перед девушкой. «Вы ведь знаете, что она сирота — по моей вине», — торжественно говорил он в заключение, когда по своему обычаю рассказывал о своих личных делах сборищу береговых шалопаев. Одобрительные возгласы его полупьяных собутыльников преисполняли его бесхитростную душу гордостью и наслаждением. «За что я раз взялся, то я и сделаю», — говаривал он, и, следуя этому принципу, лихорадочно торопил с постройкой дома и складов на берегу Пантэя. Дом предназначался для молодой четы, склады — для той обширной торговли, которую должен был вести Олмэйр в то время, как он, Лингард, беспрепятственно отдастся какому-то таинственному делу, о котором он говорил лишь намеками и которое, по-видимому, имело отношение к добыче золота и алмазов где-то в центральной части острова. Олмэйр также сгорал от нетерпения. Если бы он знал, что ему предстояло в будущем, то едва ли бы он с такой надеждой провожал глазами последний челнок лингардовской экспедиции, исчезавший за поворотом реки. Обернувшись, он увидел хорошенький домик, огромные склады, аккуратно выстроенные плотниками-китайцами, новую пристань, вокруг которой сновали челноки туземцев-покупателей, и ощутил внезапную гордость при мысли, что отныне мир принадлежит ему.
Читать дальше