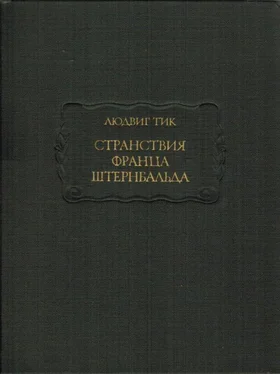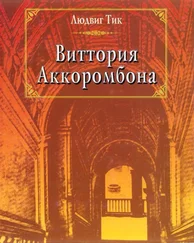И потому я хотел бы вечно пребывать в поисках и ожидании, хотел бы сохранить в груди своей восторг и преклонение перед красотой, ибо прекрасное безумие и есть прекрасная жизнь. Людям здравомыслящим я всегда буду казаться вроде пьяницы, и многие со страхом, а то и с презрением станут избегать меня.
О, в каком краю она ныне, какие картины представляются ее глазам? Я высматриваю ее на западе и востоке и со страхом думаю: а вдруг она совсем близко, но только я не знаю об этом? Не могу выразить, как жажду я один лишь раз увидеть ее, говорить с нею; а найди я ее внезапно, я не знал бы, что ей сказать. Не могу изъяснить своих чувств, да и опасаюсь, что, быть может, ты посмеешься над своим другом. Но нет, ты слишком добр, чтобы насмехаться надо мной, и я ведь с тобою вполне откровенен.
Когда я вспоминаю ее прелестные черты, святую невинность глаз, нежность щек, — как хотелось бы мне иметь хотя бы портрет, правдиво и просто передающий ее нынешний облик. Не только смерть и разлуку суждено нам оплакивать, не столь же ли достойны наших слез милые черты, нежные линии, мало-помалу стираемые временем — незадачливым художником, который уродует собственное произведение, поначалу столь ему удавшееся? Не знаю, помнишь ли ты песню старого миннезингера:
Вставай, вставай, в дубраву поспеши,
Стряхнув бескрылую дремоту;
Гони докучную заботу!
Поется лучше в зеленеющей глуши.
В зеленой солнечной стране,
Где листья трепещут в тишине,
Пташки щебечут по весне.
Ах, нет! не блуждать мне в зеленой глуши,
Где песни весенние так хороши,
Где слезы,
Где грезы
Томят и волнуют горячую грудь;
В дубраве, в дубраве нельзя отдохнуть;
Луч по весне
Будит птиц в тишине,
Но больно, больно мне!
Однажды весну я увидел вдали,
И розы в долине тогда зацвели,
И, помнится, въяве
В дубраве
Внезапно возник
Пленительный лик;
Как будто по весне
Любимую ко мне
Позвали птицы в тишине.
С весною в лес она пришла,
Зефиру нежному мила,
Всех слаще
В той чаще;
Ей поклонился первоцвет;
Фиалка молвила: «Привет!»
И пробудились небеса,
Услышав, как поют леса.
Меня коснулся нежный взор.
Зачем твой шаг легчайший скор?
Звук песен
Чудесен,
Деревья густые,
Как сны золотые!
В небесах или в лесу
Вижу я твою красу?
Как восторг перенесу?
И я спешил, прогнав дремоту,
В зеленый сумрак по весне;
Забыл я прежнюю заботу
С красавицей наедине.
Встречи сладки,
Только кратки.
Образ неземной,
Будь всегда со мной
В свежей зелени лесной!
Я вышел ранним утром вновь,
Но не пришла моя любовь;
Я горевал,
Я громко звал;
Невесты нет как нет,
Лишь карканье в ответ.
В певчей стране,
В голубизне
Больно было мне.
Возле рек, в долинах и на склонах скал
День за днем в тревоге беспрестанной
Я потом без отдыха искал,
Но не находил моей желанной;
В сумрачной глуши
Зимой холодной ни души;
В тишине
Страшно мне:
Птицы в солнечной стране.
Лето возвращалось многократно,
Птицы по весне летят обратно;
Зелен лес, куда ты ни взгляни,
Только нет ее в лесной тени.
Дни, дни!
Почему безжалостны они?
Встречусь я, быть может, с нею снова;
Подшутить над нами жизнь готова.
Старость нам грозит, и нет защиты;
Отцвели румяные ланиты.
Если с нею встречусь я в лесу,
Как узнать мне прежнюю красу?
Что нужды!
Мы друг другу чужды!
Нам сулит свиданье
Страданье.
Пусть юноша в лесу дремучем,
Тревогой мучим,
Пока вблизи любовь не шелохнулась
И не проснулась
Весна в благоуханной вышине,
Я с юностью моей встречаюсь лишь во сне,
И в солнечной стране
От песен по весне
Лишь больно мне.
Как верно по-детски наивное выражение в этих стихах! Может быть и для меня когда-нибудь мертвым представится лес, переливающийся всеми оттенками зелени.
Нередко мне хотелось бы решительно все выражать стихами, и я понимаю теперь, отчего появились на свет поэты. Только так можно передать то, что волнует тебя до глубины души.
Недавно я видел гравюру на меди работы нашего Альберта, которую он создал, когда я был уже в отъезде, потому что ни рисунок, ни весь замысел совершенно неизвестны мне. Ты, наверно, знаешь эту гравюру — она изображает отшельника за книгой {16}. Глядя на гравюру, я снова был с вами, ибо сразу же узнал и комнату, и стол, и круглые окошки, которые Дюрер перенес на картину из собственного жилища. Как часто смотрел я на круглые окошки, которые солнце рисовало на обшивке стен и потолке; анахорет сидит за столом Дюрера. Прекрасно, что наш мастер в смиренном своем пристрастии ко всему, что его окружает, оставил потомкам изображение своей комнаты, а притом вся картина так значительна и каждая черта ее дышит уединением и молитвой.
Читать дальше