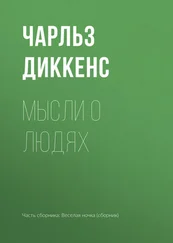Чарльз Диккенс
НАШ ФРАНЦУЗСКИЙ КУРОРТ
Завоевав, после многих лет верности, право на некоторое непостоянство по отношению к нашему английскому курорту, мы два или три сезона флиртовали с одним из французских курортов. Некогда он был известен нам только как город с очень длинной улицей, которая начиналась у бойни и кончалась у парохода; казалось, нам было суждено видеть эту улицу только на рассвете зимнего дня (в те времена на континенте еще не было железных дорог); проснувшись настолько, чтобы уже можно было понять, как неудобно мы спали, мы должны были, волею судьбы, громыхать по этой улице в парижском дилижансе, оставляя за собой море грязи и уже предвкушая переезд по другому, бурному морю. В связи с этой последней стихией перед моим умственным взором встает достойный француз в котиковой шапке с расшитым капюшоном поверх нее, который однажды был моим попутчиком в вышеупомянутом дилижансе. Проснувшись с бледным и помятым лицом, он огорченно посмотрел на грозные волны, с упоением резвящиеся на орудии пытки, которое именуется по морскому «бар», то есть отмель, и спросил нас, подвержены ли мы морской болезни. Чтобы он не был слишком потрясен видом того жалкого существа, в которое нам вскоре предстояло превратиться, а также для того, чтобы его утешить, мы ответили: «Сэр, ваш покорный слуга болеет морской болезнью всегда, когда только возможно». Он повернулся к нам, нисколько не вдохновленный этим блестящим примером: «О боже, а я болею всегда, даже тогда, когда это невозможно».
Средства сообщения между французской столицей и нашим французским курортом совершенно изменились с тех пор; но моста через Ламанш все еще нет, и там продолжается прежняя качка. Если не говорить о тех редких случаях, когда погода бывает приличной, надо признать, что трудно совершить акт переезда в наш французский курорт с достоинством. Несколько мелких обстоятельств в своей совокупности превращают приезжающего в объект многих унижений. Во-первых, как только пароход входит в порт, все пассажиры попадают в плен: они сейчас же захватываются превосходящими силами таможенных чиновников и препровождаются в некий мрачный каземат. Во-вторых, дорога в каземат огорожена веревками высотой по грудь человека, а по ту сторону этих веревок все англичане, которые сами недавно перенесли морскую болезнь, а сейчас чувствуют себя хорошо, собираются, одетые по-праздничному, чтобы насладиться зрелищем полной деградации своих сограждан. «О боже милостивый! Как ему было плохо!» — «А вон тот промок до нитки!» — «А вон какой бледный!» — «А следующий — ну и зеленый же!» Даже мы сами (не лишенные от природы чувства собственного достоинства) сохраняем живое воспоминание о том, как мы двигались, шатаясь, по этому ненавистному проходу в сентябрьский день, при штормовом ветре, и как были встречены, точно неотразимый комический актер, бурей смеха и аплодисментов, потому что наши ноги вели себя до крайности глупо.
А теперь — о том, что «в-третьих». В-третьих, пленников, запертых в мрачном каземате, проталкивают, по двое или по трое зараз, в другую, внутреннюю камеру, где изучают их паспорта; а у дверей, на проходе, стоит военная личность, которая рукой преграждает дорогу. Две мысли возникают обычно в уме британца во время этих церемоний: первая — что необходимо пробиться в эту камеру хотя бы ценой самых бешеных усилий, точно это — спасательная шлюпка, а каземат — судно, идущее ко дну; вторая — что рука военной личности есть оскорбление нашего национального достоинства, и отечественное правительство должно по этому поводу «сделать демарш». Британские ум и тело разгорячаются в результате этих размышлений, и вот уже даются горячечные ответы на вопросы и совершаются самые экстравагантные поступки. Так, Джонсон настаивает, что Джонсон это его имя, данное при крещении, а вместо того чтобы назвать фамилию своих предков, произносит национальное «черт!». И никак уже нельзя заставить его увидеть различие между ключом от чемодана и паспортом, и он будет упорно протягивать первый, в то время как у него просят второй. Поэтому, когда настает «в-четвертых», он уже пребывает в состоянии чистейшего идиотизма. Когда его, в-четвертых, выталкивают через маленькую дверь в дико ревущую толпу комиссионеров, это уже — безумец с дикими глазами и волосами дыбом, пока его кто-нибудь не спасет и не успокоит. Если у него нет друзей и никто его не спасает, его обычно сажают в омнибус, везут на вокзал и доставляют в Париж.
Читать дальше