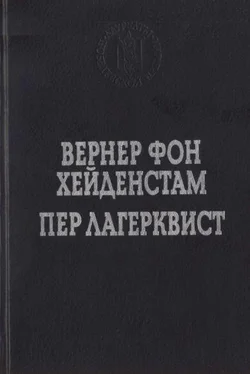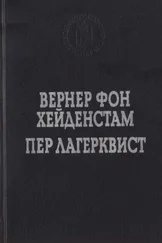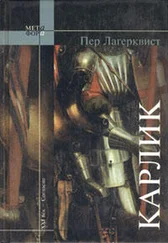Я был словно создан для того, чтобы умереть. Про других ведь этого не скажешь. А вот я обладал истинной ценностью и истинным весом. Я был истинно живым. Поэтому я спокойно мог умереть. Просто умереть, и все.
Он умолк. Со свистом выдохнул воздух.
И снова заговорил, все так же серьезно:
Мне думается, для того чтобы стать мертвым, то есть приобщиться к вечности, надо действительно что-то собой представлять. Надо стоять вне жизни и над жизнью в обычном смысле этого слова, а не быть у нее в подчинении. Я, например, как я уже упоминал, и представлял собой именно такое явление.
В разговор снова вступил второй собеседник. Он сказал:
Ни в коей мере не соглашаясь с тем, что тут было сказано, хочу заметить, что я в жизни тоже был личностью весьма замечательной. Хота мне совсем не по душе говорить так о самом себе. Я был, — если и не в своих собственных глазах, то в глазах других, — самым необыкновенным человеком из всех, когда-либо живших на земле. Мне выпала жизнь в богатстве и славе, я создавал одно великое творение за другим, совершал подвиг за подвигом, что навечно сохранятся в памяти людей. Сам я, однако, уже забыл, что именно я совершал. Оно и к лучшему: вспоминать здесь про все про это было бы слишком мучительно. Ведь сейчас я вовсе не ощущаю себя явлением из ряда вон выходящим. Я кажусь себе существом самым что ни на есть заурядным, на редкость незначительным.
Я-то был словно создан для того, чтобы жить. Сидеть вот так вот здесь мертвым — на это, по-моему, способен любой. А вот жить, жить в полном смысле этого слова и радоваться жизни — это под силу лишь незаурядной личности. Я и был такой личностью. И я сам, и многие другие считали просто нелепостью, что мне придется когда-нибудь умереть. Да я и умер как-то нелепо — несчастный случай.
И он тоже вздохнул и долго после того сидел молча, погруженный в свои мысли, после чего прибавил:
Как я уже сказал, я был весьма замечательной личностью. Теперь же я ничем не примечателен. Я считаю, что жизнь непостижимо огромна и богата. Я считаю, что смерть — ничто. Я люблю все живое и презираю свою нынешнюю никчемность. Но, как ни странно, немного, по-моему, найдется людей, которые бы действительно жили. Хоть мне и претит говорить о самом себе, думаю, что могу с полным правом утверждать, что в умении жить мне не было равных.
А вот теперь я мертв.
Он умолк. Казалось, разговор был окончен.
Но тут подал голос третий. То был приземистый толстяк с маленькими глазками и выпирающим брюшком, на котором покоились его пухлые ручки. Он походил на лавочника, внешность у него была добропорядочная, хотя и довольно бесцветная. Короткие его ножки болтались в том самом подобии тьмы. Ясно было, что, если бы он сидел на стуле, они у него не доставали бы до пола. Он сказал:
Хотя я ровно ничего не понял, про что вы тут, господа хорошие, толковали, но я всей душой с вами с обоими согласен, во всем согласен.
До чего же здорово было жить. До чего же сладка и обильна была жизнь. Когда я стоял у себя за прилавком, а вокруг были мои товары, и пахло кофе и сыром, мылом и маргарином, — до чего ж прекрасна была жизнь.
Лавка моя была самая большая в городке. Уж поверьте мне, другой такой не было. Стояла она на главной улице; все покупатели шли ко мне. И обхождение с клиентом было у меня самое тонкое. В общем, лучшей лавки в нашем городке не было, можете мне поверить.
Я говорю это не потому, что хочу похвастаться, я-то был человек самый обычный. Лавочник Петтерсон — только и всего. Но я благодарю Господа, что жил на свете.
Когда пришло время умирать — ох, как мне было тяжко. Я отвернулся лицом к стене и сказал себе: все, Петтерсон, это конец. Не верил я, что там есть что-то, считал, что это конец всему. За делом мне некогда было задумываться о каких-то высоких вещах, и без того забот хватало. Да и кто я был такой! Всего-навсего лавочник Петтерсон, человек, каких тысячи. И когда, умирая, я припомнил всю свою жизнь, припомнил, как год за годом я только и делал, что отвешивал крупу и заворачивал селедку, то решил, что было бы очень странно, если б за это мне было суждено бессмертие. Я сказал себе: черт его знает, есть ли какая жизнь после смерти, мне что-то не верится. Потом я умер.
А оказалось, что есть! И я вот сижу теперь здесь. Как ни в чем не бывало. Будто я по-прежнему стою за прилавком и вешаю крупу и заворачиваю селедку. Я по-прежнему лавочник Петтерсон.
Он замолк, растроганный. Потом сказал:
Хоть мне ничего не понятно, я очень за все благодарен. Я жил. Я умер. Я все-таки живу. Я очень за все это благодарен.
Читать дальше