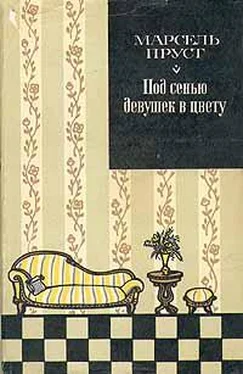Бабушка, понятно, представляла себе нашу поездку несколько иначе и, по-прежнему держась того мнения, что дарить мне нужно только что-нибудь художественное, решила, чтобы преподнести мне «гравюру» этого путешествия, — гравюру хотя бы отчасти старинную, — полпути проехать по железной дороге, а полпути — в экипаже, как ехала г-жа де Севинье из Парижа в Лориан через Шон и через Понт-Одемер. Однако бабушке пришлось отказаться от этого плана, ибо она натолкнулась на сопротивление моего отца, знавшего, что если бабушка задумала поездку с целью извлечь из нее все, что она может дать уму, значит, можно, не рискуя ошибиться, предсказать опоздания на поезда, потерю багажа, простуду, штрафы. Бабушка утешалась мыслью, что на пляже мы будем избавлены от того, что ее любимая Севинье называет «уймой знакомого народища»: Легранден так и не дал нам письма к сестре, и знакомых у нас в Бальбеке не будет. (То, что Легранден уклонился, по-иному расценили мои тетки Седина и Виктория: они еще девушкой знали ту, кого до сих пор, желая подчеркнуть прежнюю близость, продолжали называть «Рене де Говожо», чьи подарки, принадлежавшие к числу тех, которые украшают комнату, украшают устную речь, но которые ничего общего не имеют с современностью, все еще берегли, но, полагая, что мстят за нанесенное нам оскорбление, в гостях у ее матери, г-жи Легранден, никогда не произносили ее имени, а уйдя, хвалились: «Я ни разу не упомянула известную тебе особу», «Я надеюсь, что меня поняли».
Итак, мы просто-напросто должны были сесть в поезд, отходивший из Парижа в час двадцать две, тот самый поезд, который мне с давних пор доставляло удовольствие, как будто я ничего не знаю, отыскивать в расписании: это меня каждый раз волновало, это создавало почти полную иллюзию блаженства отъезда. Наше воображение определяет признаки счастья не столько на основании сведений, которыми мы располагаем о нем, сколько по тем желаниям, какое оно у нас вызывает, — вот почему мне думалось, что я знаю счастье до мельчайших подробностей, и не сомневался, что испытаю в вагоне особое наслаждение, когда к вечеру посвежеет, когда я залюбуюсь видом перед какой-нибудь станцией; более того: этот поезд, всякий раз рисовавший мне образы одних и тех же городов, которые я окутывал предвечерним светом — светом времени его следования, представлялся мне непохожим на другие поезда; и наконец, как это часто с нами бывает, когда мы, в глаза не видав человека, тешим себя мечтою, что мы с ним подружились, я наделил оригинальной и неменяющейся внешностью того белокурого странствующего художника, который якобы взял меня с собой и с которым я прощусь в Сен-Ло, около собора, так как оттуда он поедет на запад.
Бабушка не могла решиться «так, прямо» поехать в Бальбек — она рассчитывала остановиться на сутки у своей приятельницы, а я в тот же вечер должен был ехать дальше, во-первых, чтобы не стеснять ее, а во-вторых, чтобы уже в день приезда осмотреть церковь в Бальбеке: нам сказали, что это довольно далеко от Бальбек-пляжа, и, начав курс ванн, я, пожалуй, не смогу туда пойти. И пожалуй, мне было легче от сознания, что я войду в новое обиталище и заставлю себя там жить, достигнув чудной цели моего путешествия до того, как наступит первая мучительная ночь. Но сперва надо было расстаться с прежним; моя мать в тот же день перебралась в Сен-Клу, с тем чтобы — а может, это она придумала для меня — проводить нас на вокзал и, не заезжая домой, — прямо на дачу, а то как бы я, вместо Бальбека, не поехал с ней домой. И под тем предлогом, что у нее много дел на даче и что времени у нее в обрез, а на самом деле — для того, чтобы избавить меня от муки прощания, она даже решила не оставаться с нами до отхода поезда, когда, прячущаяся за суетой и приготовлениями, которые пока еще ни к чему решительному не ведут, вдруг вырастает разлука, нестерпимая, уже неизбежная, сосредоточившаяся в одном бесконечном мгновении бессильного и окончательного отрезвленья.
Впервые я почувствовал, что моя мать может жить без меня, не для меня, не такой жизнью, как я. Она оставалась с моим отцом, которому, как ей, наверно, казалось, моя болезненность, моя нервозность несколько усложняют и омрачают жизнь. Разлуку с матерью я переживал особенно тяжело потому, что, по моим представлениям, она оказалась для матери последним звеном в цепи разочарований, которые я ей доставлял, которые она от меня скрывала и благодаря которым в конце концов уяснила себе всю трудность совместного летнего отдыха; а быть может, это был еще и первый опыт жизни, с которой ей надлежало примириться в дальнейшем, так как и для моего отца, и для нее дело шло к старости, — начало той жизни, когда я реже буду видеть ее, когда она будет для меня уже не такой близкой, — а это мне и в кошмарном сне не могло присниться, — женщиной, которая возвращается домой одна, возвращается туда, где я теперь не живу, и спрашивает у швейцара, нет ли от меня писем.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу