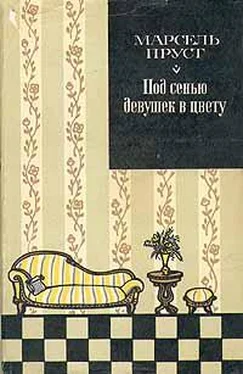Часть вторая
ИМЕНА СТРАН: СТРАНА
Два года спустя, когда мы с бабушкой поехали в Бальбек, я уже был почти совершенно равнодушен к Жильберте. Если меня очаровывало новое лицо, если я мечтал с какой-нибудь другой девушкой осматривать готические соборы, дворцы и сады Италии, я только с грустью говорил себе, что наша любовь, любовь к определенному человеку, быть может, есть нечто не вполне реальное: ведь если отрадные или тягостные думы и обладают способностью на некоторое время связать наше чувство с той или иной женщиной и даже внушить нам, что именно эта женщина неизбежно должна была влюбить нас в себя, то когда мы, сознательно или неумышленно, высвобождаемся из-под власти этих ассоциаций, любовь, как будто она, наоборот, стихийна и исходит только от нас, воскресает и устремляется к другой женщине. Но и во время отъезда, и первое время моей жизни в Бальбеке мое равнодушие было не полным. Часто (ведь наша жизнь так не хронологична, в вереницу дней врывается столько анахронизмов!) я жил не во вчерашнем и не в позавчерашнем дне, а в одном из тех более давних, когда я любил Жильберту. Тогда мне, как в былое время, вдруг становилось горько, что я не вижусь с ней. Мое «я», то, которое любило ее и которое было почти уже вытеснено другим, оживало, и чаще всего для этого нужен был какой-нибудь незначительный повод. Так, например, когда я уже был в Нормандии, незнакомый человек, с которым мы встречались на набережной, сказал: «Семейство правителя канцелярии министерства почт». Казалось бы (ведь я же не знал тогда, какую роль в моей жизни будет играть это семейство), слова незнакомца я должен был бы пропустить мимо ушей, а они причинили мне жгучую боль, и эту боль ощутило мое давно уже наполовину разрушенное «я», то самое, которое страдало от разлуки с Жильбертой. Дело в том, что я никогда не вспоминал происходившего при мне разговора Жильберты с ее отцом о семействе «правителя канцелярии Министерства почт». Между тем любовные воспоминания не нарушают общих законов памяти, подчиняющихся еще более общим законам, — законам привычки. Но привычка все ослабляет, а потому особенно живо напоминает нам о человеке как раз то, что мы забыли (ибо это было нечто несущественное, и благодаря этому оно сохранило для нас всю свою силу). Лучшее, что хранится в тайниках нашей памяти, — вне нас; оно — в порыве ветра с дождем, в нежилом запахе комнаты или в запахе первой вспышки огня в очаге, — всюду, где мы вновь обнаруживаем ту частицу нас самих, которой наше сознание не пользовалось и оттого пренебрегало, остаток прошлого, самый лучший, тот, что обладает способностью, когда мы уже как будто бы выплакались, все-таки довести нас до слез. Вне нас? Вернее сказать, внутри нас, но только укрытый от наших взоров, более или менее надолго преданный забвению. Только благодаря забвению мы время от времени вновь обнаруживаем то существо, каким мы были когда-то, ставим себя на его место, вновь страдаем, потому что мы — это уже не мы, а оно, потому что оно любило то, к чему мы теперь равнодушны. При ярком свете обычной памяти образы минувшего постепенно бледнеют, расплываются, от них ничего не остается, больше мы их уже не найдем. Вернее, мы бы их не нашли, если бы какие-то слова (вроде «правителя канцелярии министерства почт») не были хорошо спрятаны в забвении, — так сдают экземпляр книги в Национальную библиотеку, потому что иначе ее не найдешь.
Но мои страдания и прилив любви к Жильберте длились не дольше, чем во сне, и на этот раз потому, что в Бальбеке недоставало прежней Привычки, которая бы их продлила. И если следствия Привычки кажутся противоречивыми, то это оттого, что она подчинена множеству законов. В Париже я в силу Привычки становился все равнодушнее к Жильберте. Смена привычки, то есть мгновенная приостановка Привычки, довершила дело Привычки, как только я уехал в Бальбек. Она ослабляет, но и упрочивает, она влечет за собой распад, но из-за нее распад тянется до бесконечности. Каждый день на протяжении нескольких лет я с грехом пополам восстанавливал мое вчерашнее душевное состояние. В Бальбеке новая кровать, возле которой мне ставили по утрам легкий завтрак, не такой, как в Париже, не удерживала мыслей, которыми питалась моя любовь к Жильберте: бывают случаи (правда, довольно редкие), когда оседлость останавливает течение дней, и тогда самое лучшее средство наверстать время — это переменить место. Мое путешествие в Бальбек было как бы первым выходом выздоравливающего, который только его и ждал, чтобы убедиться, что он поправился.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу