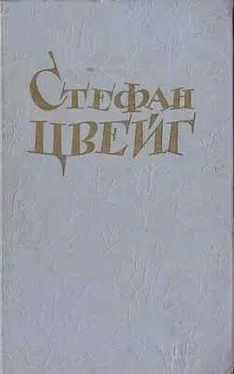— Ну, как? — с гордостью спросил он. — Случалось вам видеть что-либо прекраснее этого оттиска? Смотрите, как тонко и четко выделяется каждый штрих! Я сравнил свой экземпляр с дрезденским, и тот показался мне каким-то расплывчатым, тусклым. А какова родословная! Вот! — Он перевернул лист и ногтем указательного пальца так уверенно стал водить по пустой бумаге, отмечая места, где должны были находиться пометки, что я невольно взглянул, уж нет ли их там на самом деле. — Это печать коллекционера Наглера, а здесь Реми и Эсдайля; ну могли ли мои знаменитые предшественники предполагать, что их достояние когда-нибудь попадет в такую комнатушку!
Мороз пробегал у меня по коже, когда этот не ведающий о своей утрате старик изливался в пылких похвалах над совершенно пустым листом бумаги; невыразимо жутко было глядеть, как он со скрупулезной точностью кончиком пальца водил по невидимым, существующим лишь в его воображении знакам прежних владельцев гравюры. От волнения у меня перехватило горло, и я не мог произнести ни слова в ответ; но, взглянув случайно на женщин и увидев трепетно протянутые ко мне руки дрожащей от страха старушки, я собрался с силами и начал играть свою роль.
— Замечательно! — пробормотал я. — Чудесный оттиск.
И тотчас же лицо старика просияло от гордости.
— Это еще что! — ликовал он. — А вы посмотрите на его «Меланхолию» или «Страсти» в красках — второго такого экземпляра на свете нет. Да вы поглядите только, какая свежесть, какие мягкие, сочные тона! — И снова его палец любовно забегал по воображаемому рисунку. — Весь Берлин, со всеми своими искусствоведами и антикварами перевернулся бы вверх тормашками от зависти, если бы они увидели эту гравюру!
Бурные, торжествующие потоки его слов изливались целых два часа. Нет! Я не берусь описать тот поистине мистический ужас, который я пережил, пока просмотрел вместе с ним сотню или две пустых бумажек и жалких репродукций. Незримая, давным-давно разлетевшаяся на все четыре стороны коллекция продолжала с такой поразительной реальностью жить в воображении старика, что он, ни секунды не колеблясь в строгой последовательности и в мельчайших подробностях описывал и восхвалял одну за другой все гравюры; для этого слепого, обманутого и такого трогательного в своем неведении человека она оставалась неизменной, и страстная сила его видения была так велика, что даже я начал невольно поддаваться этой иллюзии. Один только раз страшная опасность пробуждения нарушила сомнамбулический покой его вдохновенного созерцания. Превознося рельефность оттиска рембрандтовской «Антиопы» (речь шла о действительно бесценном пробном оттиске) и любовно водя своим нервным, ясновидящим пальцем по воображаемым линиям, он не обнаружил на гладком листе бумаги столь знакомых ему углублений. Лицо старика внезапно омрачилось, голос стал глухим и неуверенным.
— Да «Антиопа» ли это? — пробормотал он смущенно. Я тотчас же взялся за дело и, выхватив у него из рук паспарту с пустым листом, принялся с жаром и возможно подробнее описывать мнимую гравюру, которую и сам отлично помнил. Черты слепого снова разгладились, смягчились. И по мере того, как я говорил, лицо этого грубоватого старого вояки все ярче и ярче озарялось простодушной, искренней радостью.
— Наконец-то встретился мне понимающий человек! — торжествующе обернувшись в сторону женщин, ликовал он. — И наконец-то, наконец-то вы можете убедиться, как ценны мои гравюры. Вы не верили, ворчали на меня, что я ухлопывал на свою коллекцию все деньги: правда, шестьдесят лет я не знал ни вина, ни пива, ни табака, ни театра, ни путешествий, ни книг, а только все копил и копил на покупку этих гравюр. Но погодите, вы еще будете богаты; когда меня не станет, вы будете так богаты, как самые большие богачи в Дрездене, богаче всех в нашем городе, и тогда-то вы помянете добрым словом мое чудачество. Но пока я жив, ни одна гравюра не выйдет из этого дома: сначала вынесут меня, а уж потом мою коллекцию.
И он нежно, словно живое существо, погладил опустошенные папки; мне было жутко глядеть на него, но вместе с тем и отрадно, потому что за все годы войны я ни разу не видел на лице немца выражения столь полного, столь чистого блаженства. Возле него стояли жена и дочь, и было таинственное сходство между ними и фигурами женщин на гравюре великого немецкого мастера, которые, придя ко гробу спасителя и увидев, что камень отвален и гроб опустел, замерли у входа в радостном экстазе перед совершившимся чудом с выражением благочестивого ужаса на лицах. И подобно тому как на гравюре последовательницы Христа улыбаются сквозь слезы, пораженные предчувствием явления спасителя, так же и эта несчастная, раздавленная жизнью старуха и ее стареющая дочь улыбались, озаренные светлой детской радостью слепого старца, — то была потрясающая картина, подобной мне не привелось видеть за всю свою жизнь.
Читать дальше