А внизу, в нескольких шагах от них, в клетке сидит рабыня, поджав под себя ноги, закрыв глаза и сунув затылок между двух сучковатых лесин.
Она старается продумать и понять свое положение, найти выход или хотя бы оценить степень безвыходности; старается, но напрасно. Вспоминает, что когда-то умела думать обо всем, что происходило вокруг, причем не только о чем-то приятном, но и о пропавшем ягненке или каком-либо ином убытке, о болезни или раздорах в доме или у родни. Тогда она тоже не всегда могла до конца довести каждую свою мысль и найти выход; однако могла думать и искать. Но это было до того, как настал черный день, и до того, как исчезло их село и с ним ее семья. А теперь она даже не может думать.
Мыслям ее не на что опереться, все усилия тщетны. Нет ее села Прибиловичи. От него осталось пепелище. Едва сгорели дотла три десятка домов, составлявших их село, как в душе ее сами собою выросли другие Прибиловичи, черные, тяжелые и мертвые, они давят на нее, не позволяя глубоко вздохнуть, а люди, близкие ей люди, или погибли, или стали рабами и рассеялись по белу свету. И она сама — рабыня, и только рабыня. Так она живет и только так может смотреть на мир и окружающих, картина мира в ее глазах потемнела и исказилась. Раб мужчина, рабы — женщина и ребенок, от рождения до смерти в рабстве у кого-то и у чего-то. Раб — дерево, раб — камень, и небо тоже раб вместе с облаками, и солнцем, и звездами, рабыни вода, роща и пшеница, которая сейчас где-то — там, где ее не сожгли и не вытоптал и, — должна колоситься; пшеничному зерну тоже не хочется идти под жернов, но идти нужно, ибо оно — раб. И слова, с помощью которых объясняются люди, тоже рабы, независимо от того, на каком языке их произносят; все можно свести к трем буквам: раб. Рабство есть жизнь как таковая, и та, что идет и подходит к копну, и та, что еще в зародыше, невидимая и неслышная. Мечта человеческая — в рабстве: вздох, кусок хлеба, слезы и мысль — в рабстве. Люди рождаются для того, чтобы быть рабами рабской жизни, и умирают рабами болезни и смерти. Раб в рабстве у раба, ведь рабом является не только тот, кого связанным ведут на продажу, но и тот, кто его продает, и тот, кто его покупает. Да, раб каждый, кто не живет среди своих, в Прибиловичах. А Прибиловичей давно уже нет.
Нет Прибиловичей. нет ее дома и ее рода. Тогда, значит, и ее самой нет! В этом было единственное утешение, единственный путь к спасению. Из-за жизни отказаться от жизни. Ей все время видится огонь, вызывающий одно желание — исчезнуть в этом огне! Исчезнуть навсегда, навеки, как исчезло все, что ей принадлежало. Да, но как это сделать?
Она открыла глаза, и взгляд ее упал на собственные руки, розовые и сильные, и на голые ноги в тонких опанках, тяжелые от плоти и крови. Всего этого для нее не существует, оно не надобно ей, но оно здесь, живое и теплое, независимо от ее воли. Вместе с глазами, которые смотрят, все это должно сгореть, исчезнуть, и тогда она освободится от беды и кошмара, который она постоянно, и во сне и наяву, видит последние несколько недель. Все это надо уничтожить, и тогда она вновь окажется со своими, там, где все принадлежит ей.
Но мир продолжает существовать, мир без Прибиловичей, означающий рабство, позор и непрерывную боль, а в этом мире ее тело, полное огня и силы, неуничтожимое, продолжает жить. А раз так, пусть исчезнет мир, весь мир вместе с ее телом. Вот тогда расчет будет полный и окончательный. Ничего не будет. Значит, станет хорошо или, по крайней мере, терпимо, потому что нечего будет терпеть.
Так она думала и в то же время понимала, что ее слабая и блуждающая мысль ни на что не способна; ей не под силу и замок на клетке сломать, куда уж там отнять слух и зрение, погасить жизнь в ней и во всем этом ужасном мире вокруг. Не под силу, однако она продолжает прислушиваться к своей мысли и не перестает лелеять свое единственное желание.
Прислонившись спиной к жердям клетки, она упирается ногами в мелкий булыжник. Руки сложены на груди, глаза закрыты: на миг она открывает их, и взгляд ее поднимается от мостовой через мертвый лик какого-то домины и крыши его к стенам черной крепости и узкой полосе ясного неба над ними. И тут же она вновь закрывает глаза, крепко, все крепче и крепче, словно она вовсе не открывала их и ничего не видела. Нет больше домов, ни больших, ни малых, они сгорели, это ей лишь привиделось. И неба нет, потому что оно навеки исчезло в дыму и пламени.
Не нужно смотреть. И дышать не нужно. Дышать — это значит вспоминать и значит видеть не то, что видишь сейчас, а то, что ты видела в свете пожара и разгуле резни, не знать ничего, кроме того, что на свете нет больше никого из твоих близких, а ты живешь, чудовище, проклятие и позор. Вот что значит дышать. Она вскочила и, как зверь, заметалась по клетке.
Читать дальше


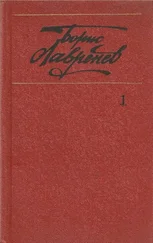
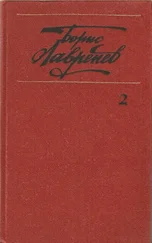
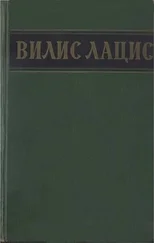



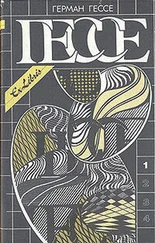
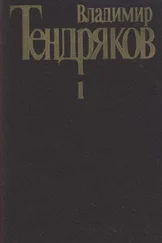
![Василий Кондратьев - Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres]](/books/396740/vasilij-kondratev-pokazaniya-poetov-povesti-rass-thumb.webp)
![Эжен Ионеско - Между жизнью и сновидением [Собрание сочинений - Пьесы. Роман. Эссе]](/books/422894/ezhen-ionesko-mezhdu-zhiznyu-i-snovideniem-sobranie-thumb.webp)
