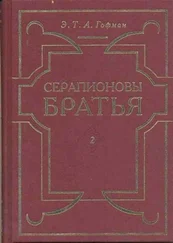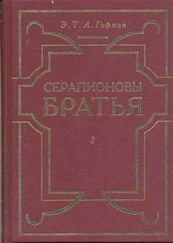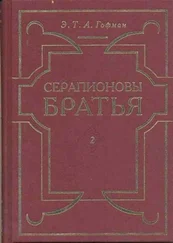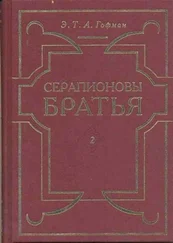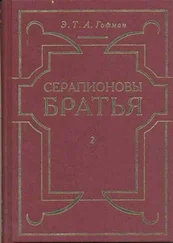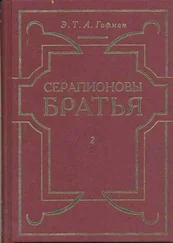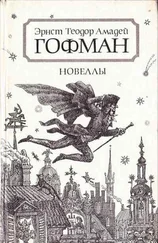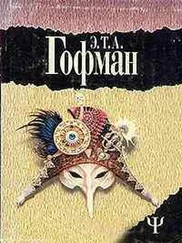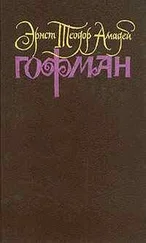— Утешил выдумкой! — возразил на это Лотар. — Не будешь ли ты так добр продиктовать и дальнейшие законы этих собраний? Не постановить ли о чем можно и о чем нельзя будет говорить? Не обязать ли каждого рассказать непременно три острых анекдота или определить неизменный салат из сардинок для ужина? Этим способом мы погрузимся в такое море филистерства, какое может процветать только в любом клубе. Неужели ты не понимаешь, что всякое определенное условие влечет за собою принуждение и скуку, в которых, по крайней мере для меня, тонет всякое удовольствие? Вспомни наше прежнее отвращение ко всему, что хотя бы чуть-чуть напоминало клуб, кружок или какое-нибудь из этих глупых учреждений, где царят скука и пресыщение! А теперь ты хочешь подводить под это правило наш, способный процветать только на полной свободе четырехлистник.
— Наш друг Лотар нелегко расстается со своей хандрой, мы это все знаем, — возразил Теодор. — Знаем и то, что в этом дурном настроении он часто создает призраки, с которыми храбро сражается до тех пор, пока, устав до смерти, бывает вынужден сам сознаться, что все эти призраки — плод его собственного воображения. С какой стати заговорил он о клубах, кружках и связанном с ними филистерстве, выслушав совершенно невинное и притом крайне разумное предложение Оттмара? Я вспомнил по этому поводу забавное приключение из нашей прежней жизни. Помнишь, Лотар, как, оставив в первый раз столицу, мы приехали в маленький городок П***? Местные нравы и приличие требовали, чтобы мы непременно записались в клуб, основанный тамошней городской знатью. И вот в один прекрасный день получаем мы высокопарнейшим слогом написанное послание, которым нас извещали, что на прошедшем голосовании мы оба избраны членами почтенного учреждения. К сему была приложена опрятно переплетенная книга в пятнадцать или двадцать листов толстой бумаги, содержавшая изложение клубных законов, сочиненных, вероятно, каким-нибудь старым советником совершенно в форме Прусского земского Уложения, с разделением на статьи и параграфы. Признаюсь, я не читал ничего забавнее! Так, помнится, одна статья, излагавшая права и обязанности женщин и детей, гласила ни более ни менее, что жены членов могут пить в помещении клуба вечерний чай по воскресеньям и четвергам, а в зимнее время имеют право даже танцевать от четырех до шести раз. Постановления о детях были еще строже, так как законодатель обработал этот предмет с особенным старанием, разделив детей на малолетних, подрастающих, несовершеннолетних и находящихся под опекой. Малолетние, в свою очередь, разделялись сообразно их нравственным качествам на послушных и непослушных, из которых последним вход в клуб запрещался основным законом. Забота сделать клуб непременно послушным была одной из главнейших. Затем следовал любопытный раздел о собаках, кошках и прочих бессловесных существах. Никто не имел права вводить в клуб диких, вредных животных, так что если б кто-нибудь из членов выдрессировал льва, тигра или леопарда как комнатную собачку, то швейцары возбранили бы вход такому раскольнику животного царства, даже если бы у него были обрезаны волосы и когти. Клубоспособность отрицалась также у верных пуделей и цивилизованных мопсов, и только в виде исключения дозволялось вводить таковых летом, когда клуб обедал на даче, но и то не иначе как по предъявлении особых карточек, выдаваемых совещательным комитетом. Мы с Лотаром присочинили, помню, тогда к этому глубокомысленному кодексу целый ворох глупейших приложений и деклараций и торжественно представили их на обсуждение первого общего собрания, причем имели удовольствие видеть, что вся эта чепуха дебатировалась серьезнейшим образом, пока проделка наша не кинулась уж слишком ярко в глаза человекам двум-трем поумнее, за что мы и были только лишены общественного доверия, вопреки нашему ожиданию быть изгнанными из клуба совсем.
— Помню я это счастливое время, — заметил Лотар, — и с сожалением замечаю, что нынче меня уже не подобьешь на такую проказу. Стар я стал и отяжелел в придачу до того, что теперь меня зачастую сердит то, что прежде забавляло.
— Никогда я этому не поверю, — сказал Оттмар, — и уверен, что сегодня ты просто хандришь, или, может быть, в душе твоей звучит отголосок какого-нибудь дурного влияния. Новая жизнь оживит, как весна, твое сердце, заглушив его фальшивые тона, и ты будешь опять прежний веселый Лотар, каким был двенадцать лет тому назад. Ваш клуб в П*** напомнил мне другой, основатель которого был, вероятно, великий юморист, если судить по сочиненному им уставу, напоминавшему статуты ордена дураков! Представьте себе общество, организованное совершенно наподобие государства, — то есть с королем, министрами, советниками и т. д., и притом с единственной целью хорошо поесть и еще лучше выпить. Собрания проходили всегда в гостинице с самой лучшей кухней и погребом. Там торжественно рассуждалось о благоденствии государства, то есть о снабжении его блюдами и вином. Министр иностранных дел докладывал об открытии в одном из отдаленных погребков превосходного рейнвейна. Сейчас же снаряжалось посольство. Граждане, испытанные в должности пробования вин, назначались послами, им давались подробнейшие инструкции, а министр финансов открывал особый кредит на издержки посольства и на покупку указанного товара. Неудачно приготовленный соус вызывал целое волнение: обменивались нотами, произносили резкие речи об угрожающей государству опасности, иногда собирался государственный совет для обсуждения, из какого вина следует приготовлять холодный пунш. Король глубокомысленно слушал прения, и затем принятый закон о холодном пунше передавался к исполнению министру внутренних дел. Но министр внутренних дел страдал слабым желудком и не мог переносить лимонного сока, почему и напичкал пунш померанцевыми корками! Отсюда новое постановление, узаконивающее отступление от первого. Науки и искусства тоже не оставались без поощрения: поэта, написавшего пуншевую песню, и композитора, положившего ее на музыку, король жаловал кавалерами ордена красного петушиного пера, и они получали разрешение выпить в тот день на одну бутылку вина больше, чем обычно, конечно, за их собственный счет. В торжественные дни король надевал огромнейшую корону из золотой бумаги, брал в руки скипетр и державу, а придворные украшались особыми шляпами. Герб общества изображал серебряный сосуд, на крышке которого стоял жирный петух с расправленными крыльями, старавшийся изо всех сил снести яйцо. Если прибавить ко всему этому, что в обществе, по крайней мере, в мое время было много умных и острых людей, умевших очень мило разыгрывать свои роли и вместе посмеяться над тем, что происходило вокруг них, то вы легко поймете, к каким веселым шуткам располагало меня посещение этих собраний.
Читать дальше