Роберто Хорхе Пайро
Женитьба Лаучи

Его прозвище «Лáуча» [1]– кличка, а не имя, данное при крещении, – подходило к нему как нельзя лучше.
Росту он был маленького, щуплый, пугливый, прыткий; не лицо, а острая мордочка, над губами щетинились редкие, чахлые усики; блестящие, выпуклые, как бусины, черные глаза, почти без белков, дополняли сходство, еще более разительное из-за покатого узкого лба и выгоревших, мышиного цвета волос.
Кроме того, никто не помнил его настоящего имени. Лаучей звали его еще на родине, во внутренней провинции; кличку Лауча ему давали повсюду, куда только ни забрасывала его лихая судьба. Лаучей назвали его в Буэнос-Айресе, едва лишь он прибыл в город, причем так и не выяснилось, кто первый дал ему это прозвище; Лаучей называли его и стар и млад в течение тридцати одного года – с пятилетнего возраста до самой смерти, настигшей его в тридцать шесть лет…

Он рассказал мне о самом захватывающем приключении в своей жизни, и на этих страницах я попытался воспроизвести рассказ в том виде, в каком его услышал. К несчастью, Лаучи уже с нами нет, и он не сможет Поправить меня, если я в чем-нибудь ошибся, но смею заверить, что я ненамного уклоняюсь от истины.

Так вот, сеньор, после того как я несколько лет прошатался по провинциям Тукуман, Сальта, Жужуй и Сантьяго, промышляя то игрой в фортунку, то торговлей вразнос, нанимаясь то пеоном, то школьным учителем, одним словом, зарабатывая на свою собачью жизнь чем бог пошлет, после того как поколесил по городам и деревням, по имениям и сахарным заводам, всегда нищий, всегда оборванный, иной день без куска хлеба и всякий день без сентаво в кармане, я вдруг вообразил, что, пожалуй, лучше мне будет в Буэнос-Айресе, а уж хуже мне нигде не могло быть, потому что в этих провинциях нечего ждать такому человеку, как я, без гроша за душой, не слишком ученому, не слишком сильному… да и не слишком уж большому охотнику до работы… И так мне это втемяшилось, что решил я во что бы то ни стало уехать и начал делать сбережения, откладывая по сентаво, – это я-то, который никогда денег не берег! – пока не набралось у меня достаточно на дорогу… то есть ровно столько, сколько нужно, и ни сентаво больше.
Не стану рассказывать, на какие только ухищрения я не пускался, чтобы собрать эти денежки: можете сами вообразить, ну а если нет, тоже не беда. Главное, что в один прекрасный день устроился я в поезде – ясно, в третьем классе, тогда еще для собак билетов не продавали, – добрался до Центральной Аргентины, побывал в Кордове и из Росарио отправился в Кампану на рейсовом пароходе. Так оно было дешевле… В Кампану тогда прибывали все пароходы, идущие по Паране, а уж оттуда я думал доехать до Буэнос-Айреса поездом.
Высадился я в Кампане со всем своим багажом, а его только и было что грубошерстный домотканый пончо, весь в ярких полосах – я его еще в Тукумане выиграл в кости у одного пеона из Катамарки; ему этот плащ выткала жена бог знает сколько лет тому назад…
Все мои денежки, увы, разлетелись до последнего сентаво, ведь надо было и поесть, и стаканчик выпить в дороге. Вот и очутился я в Кампане с пустым кошельком, так что добраться до Буэнос-Айреса мог, лишь заложив или продав какую-нибудь одежку… А что у меня было, кроме пончо?… Вы, поди, думаете, что все это никакого отношения не имеет к моей женитьбе? Но потерпите малость… Нищета – старуха с норовом, она вертит человеком, как ей только на ум взбредет. Меня она довела до неудачного брака, сами увидите…

Так вот, брожу я из лавки в лавку, раздумывая, как бы мне спустить пончо, а на полученные денежки купить билет, и ничего-то у меня не выходит – нет охотников на мой товар.
– Такие пончо здесь не носят, – говорит один.
– Мне их и так девать некуда, – говорит другой.
– Проваливай со своим старьем, – заорал, разозлившись, какой-то галисиец, у которого в лавке только и были что ржавые гвозди, не иначе от Ноева ковчега.
Читать дальше







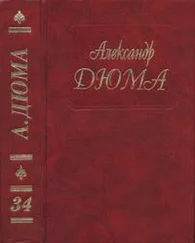


![Нурмурад Сарыханов - Женитьба Элли Оде [сборник рассказов]](/books/174733/nurmurad-saryhanov-zhenitba-elli-ode-sbornik-rass-thumb.webp)


