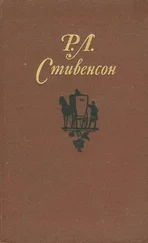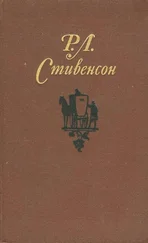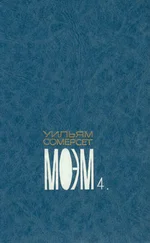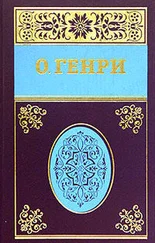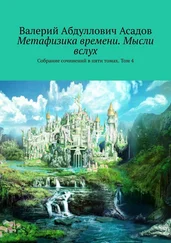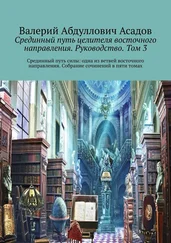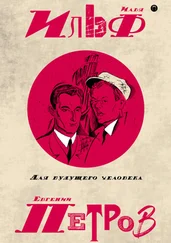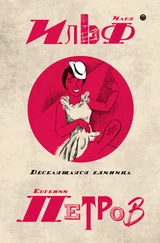«Для человека невозможно…» Но есть и иные силы, иная мудрость, большие, чем человеческие. Фальконетовский Петр и Александр III Трубецкого — вот она, история романовской самодержавной России. Один вздернул коня над бездной, не сообразуясь ни с чем, опьяненный азартом открывшихся глазу просторов. Другой — тоже коня, но спустя двести лет, отяжелевшего, расплывшегося. Какие там бездны! Да и узда до отказа натянута огромной ручищей. Лишь бы ни шага вперед. Лучше на месте стоять, чем в пропасть катиться. Но стоять без конца разве можно? Можно или нельзя — все равно: ныне в этом единственный выход. Да, как ни печально, этот выход, выхода не обретший, кажется, самый разумный. Что ж еще делать? Поверить в «творческие силы революции»? Но революция всегда была лишь разрушением, самодовлеющим во имя самого разрушения, если не во имя торжества злого начала в его извечной битве с началом добра, называемой жизнью…
Я еще маленький, но не случайно в числе первых мною прочитанных книг — Евгения Тур, «Дети короля Людовика XVI». Веселый голубой переплет с позолотою букв скрывает трагическую историю молодого дофина. Сапожник Симон и парижская чернь куда пострашнее косматых львов, населявших кошмары моего младенчества. Но это ж безбожная Франция! Наш народ — великий народ. Его разум, его героизм и его доброта не сравнимы ни с чем. Все, что могло происходить там, в Париже, к счастью, у нас невозможно. Красивому большеглазому мальчику в матросской шапочке с надписью «Штандарт» никогда не будет угрожать участь юного дофина…
А ночью в доме, оказывается, побывали воры. Влезли с нижнего балкона, вырезав стекло в папином нижнем кабинете, но, пролезая в окно, зацепили тяжелую икону, которая с грохотом упала и всех разбудила. Так ничего и не унесли. Я очень этому рад, потому что папин нижний кабинет, обычно стоящий на запоре, мне кажется настоящей сокровищницей. Там стоят огромные шкапы с кожаными корешками библиотеки, чудесные бронзовые статуэтки, в больших застекленных витринах заботливо разложены коллекции и всякие редкости, вывезенные им из своего путешествия по Германии, Франции, Италии и Испании: раковины, окаменелости, сухие растения, чучела рыб и птиц.
По поводу ночного происшествия за утренним чаем припоминаются прошлые случаи грабительских визитов — их было немало. Припоминают, как дядя Сережа — брат папин, разбуженный ночью, обратил в бегство злодея, запустив в него большим белым грибом из набранной накануне корзины, и как тетя Катя, слыша, что возле кто-то хозяйничает, поленилась проснуться и после, разбуженная, наконец, встревоженной Мадемуазель, поднявшей на ноги весь дом, спокойно сказала: «Так Вы насчет жуликов? Ну так они у меня уже были…»
Попутно еще выяснялся шутливо один немаловажный вопрос: не читал ли кто Достоевского? В семье существовала очень твердая примета, что чтение Достоевского способствует появлению воров. Как только кто-нибудь принимался читать «Идиота» или «Бесов» — воры тут как тут. Почему это так, не знает никто. Однако ж это точно. «Вы помните, когда Дюдя (мамин отец) стал читать „Идиота“, ночью в зале шторы тогда унесли. Когда мама взялась перечесть „Униженных и оскорбленных“ — взломали внизу ящик в буфете и серебряные ложки похитили, когда Мадемуазель…» И так далее. Конечно, серьезно в это не верит никто, и все же примета издавна себя с неуклонным упорством оправдывает, не давая забыть о ней.
— Так, значит, никто не читал в этот раз? Просто странно…
Ничего не поделаешь — надо признаться:
— Я… Немножко читал…
— Ты?! Да откуда ты взял?
— Вот… — приношу растрепанную хрестоматию Галахова. В ней отрывок из «Мертвого дома». Только вчера я прочел, ничего, конечно, толком не понял… Но, тем не менее, главное сделано — воры в доме уже появились! Я сам вызвал их появление!!
Папа смеется: «Ну вот, ничего вы не знаете. Неудивительно, что если завтра он у вас примется за полное собрание Достоевского, а тем временем дом весь растащат, никто не заметит…»
От самых ранних лет мне было известно, что такое ангел. Иконы, молитвы, картинки в книгах, рассказы сестры всячески уточняли и детализировали этот образ. И все же он оставался в чем-то двойственным и оттого неясным. С одной стороны, это был ангел с пламенным мечом, изгоняющий из рая прародителей, ангел Лермонтова, тот, что «душу младую в объятиях нес» и «тихую песню он пел», — словом, ангелы Ветхого и Нового завета, иногда гневные, но чаще кроткие посланцы неба, прекрасные, вечно юные существа с жемчужно-перламутровыми крыльями. Мне было сообщено также, что я, как и всякий человек, имею своего «собственного» ангела-хранителя. Вот этот-то «собственный» ангел и оставался особенно смутным. Такие ангелы тоже изображались на многочисленных картинках. Все те же — крылатые и нежные, они склонялись над колыбелями и детскими кроватями, являлись к больным, принося им исцеление. И они же якобы отходили в сторону и проливали молчаливые слезы, когда я вел себя не так, как, по их мнению, следовало.
Читать дальше