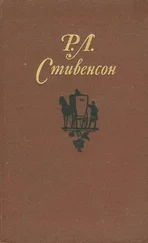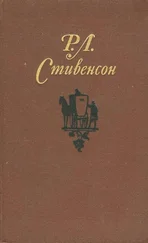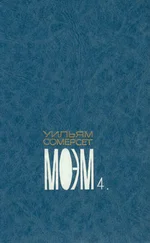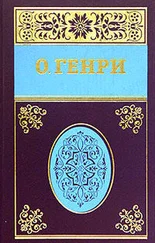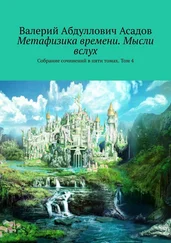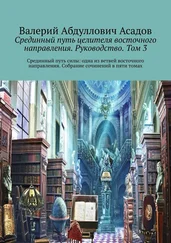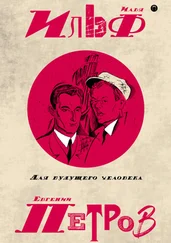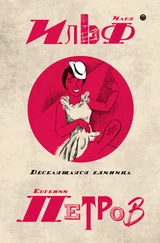И опять той же старой дорогой идет неспешный рассказ. Шумят косматыми вершинами ели многоверстного дремучего леса. В вечереющих косых лучах огражденный бревенчатым тыном постоялый двор возникает. Злобных псов лай звучит, и скрипит отмыкаемый нехотя тяжкий засов…
— На ночь-то глядя, ужели поедете? Лучше бы пообождать да ужо… Ведь большой перегон, и все лесом…
— Ну так што ж? Кони добрые…
— Кони-то кони…
— Ну?!
— Шалят на дороге… Почитай, кажну ночь. Намедни купчишка вот тоже поехал… Нашли с перерезанной глоткой…
— Шалят, говоришь? Ну и ладно… Пусть сунутся!
— Береженого Бог бережет… Обождали бы…
— Пустое толкуешь. Закладывай!
Сам не свой от страшных рассказов, ямщик подвязал бубенцы, чтобы не было звона, и в дорогу. Чаща смыкается сзади и спереди… Ночь наступила. Все глуше, все гуще вокруг. Господи, пронеси! Хлещет ямщик лошадей, косятся они недоверчиво, прядут ушами…
Вдруг: «Стой!»
Ухватив под уздцы пристяжных, с обеих сторон двое рыжих повисли. Осадив на бегу, присели кони на задние ноги. Еще двое из леса на подмогу бегут. Кто-то высек огонь, и смолистый факел озарил темные спутанные бороды и блеск разбойничьих глаз под мохнатыми бровями…
— Вылезайте-ка, гости любезные. Не проспались? Так здесь отоспитесь. Тут вам и двор постоялый, и дороге конец. Раскошельтесь, а там… чем хотите употчуют… и с поклоном проводят — к Богу в рай, на тот свет. Ворота раскрыты, дорога прямая. Пожалуйте…
Но не дверь на тот свет, а лишь дверца кареты раскрылась, и то ли голос, то ли труба иерихонская без натуги, без страха, вполсилы пророкотал:
— Што там подняли шум? С ума спятили? Того гляди, братца разбудите. Братец наш задремал в карете… Харахтер у них, особливо со сна, крутоват…
И, выпростав из-под меховой пелерины огромную, точно медвежью, лапищу, проезжий ступил на дорогу одной лишь ногою; подскочившего взял за плечо и чуть-чуть, не со зла, подавив, оттолкнул…
Только хрустнули кости ключицы, и в канаву у обочины, осенней водою наполненную, застонав, отлетел здоровенный мужик…
И тогда из каретных глубин что-то смутным голосом рявкнуло:
— Чего стал? Погоняй!
И карета пошла ходуном. Это «братец» проснуться не соизволили и, сна глубокого не прерывая, с бочка на другой повернулись…
Ямщик опомнился, вытянул, что было сил, кнутом по спине коренного. Кони рванулись. Лес расступился. Карета дальше поехала…
А ехал в карете «красный дедушка» с братом. Обоих разбойнички знали, особенно «братца». Он одним нажимом пальца легко вгонял в бревно пятидюймовые гвозди и так же легко вытаскивал их обратно. А когда раз он ехал вот так-то и двое набросились, легонько состукнул их лбами, так, чтоб не до смерти (греха на душу брать не любил), поклал обоих в карету да и привез на постоялый двор, где, поскольку веревки под руками не оказалось, вместе обоих связал кочергой, да так, что позже пришлось кузнеца вызывать, чтобы ту кочергу с них совлечь…
В дальнейших главах развертывалась история предков отца со стороны матери — Кротковых.
Их родовое имение Кротовка, в Самарской губернии, сейчас за сестрой отца — тетей Машей; досталось супругу ее, Владимиру Львову — думскому деятелю, впоследствии обер-прокурору Святейшего синода в незадачливом Временном правительстве.
Во второй половине XVIII века Кротовка была цветущим богатым имением. Вокруг барского дома лежали большие хлебородные просторы, колосились поля, паслись неисчислимые стада, трудились в количестве «скольких-то тысяч душ» крепостные. Всем этим достоянием владел Степан Егорович Кротков. Его портрет, верно, сработанный каким-нибудь крепостным художником, висел бок о бок с «красным дедушкой» в зале Новинского дома. Над синим кафтаном и лимонно-желтым жилетом с перламутровыми пуговицами кружевное жабо обрамляло волевое лицо, одно из тех лиц, что давно бесследно исчезли как тип, как строение всей системы лицевых мышц и мускулов, отмеченных своеобразной цельностью суровой прямоты, настойчивости и властной, деспотической воли…
Вставало над Кротовкой жаркое южное солнце. Нещадно палило оно, на корню сжигая посевы. Сколько в полях ни служилось молебнов о ниспосланьи дождей, дождей не было. Уносили обратно иконы; покачиваясь в безоблачном небе, следом за блестящими облачениями попов, плыли хоругви, и зной продолжался. Такая была полоса: год за годом неурожаи. Тотчас же, вслед за весной, приходила знойная засуха, и солнце сжигало все на корню. Крестьяне, бросая дома и семьи, бежали в Заволжье, чтобы прожить грабежом, а кто оставался, те пухли от голода. Пекли хлебы почти из одной лебеды, да и той становилось все меньше. Варили сено, опилки, кору. Скот и резать не успевали — такой был падеж. Пока был, так и то приходилось питаться дохлятиной, а потом подошло: ни скота, ни хлеба — все подобралось.
Читать дальше