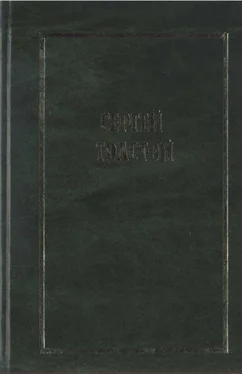Увидев нас, он стал часто посмеиваться каким-то овощным неестественным смехом, пугавшим и возбуждавшим беспокойство. Он смущенно снимал и надевал снова пенсне, потирал руки, начинал свертывать цигарку, сыпал в нее махорку, но руки у него дрожали и табак сыпался мимо… На окнах висели гирлянды желтобоких дозревающих помидоров и, казалось, ждали своей очереди, чтобы тоже перевоплотиться во что-нибудь человекоподобное…
Прошло немало времени, прежде чем я привык к этому смеху, долго казавшемуся идиотическим, и научился ценить Санечкиного отчима Антона Дмитриевича Облеухова. Тогда я понял, что и этот смех, и смущенное дрожание рук — все это были лишь признаки самой искренней радости, не находящей себе другого внешнего выражения.
Друг раннего Брюсова, поэт и переводчик Мюссэ, мистик и чуть ли не демонист, потом в результате какого-то психического перелома обратившийся к религии и женившийся на овдовевшей Санечкиной матери, которую он давно любил, Антон Дмитриевич прожил разнообразную и интересную жизнь. Занявшись лесным делом, он проявил в нем большую сметку и коммерческие способности, чего трудно было ожидать от такого абстрактного и в повседневной жизни беспомощного человека. Он спас вконец расстроенное состояние Купреяновых, помог им выкупить заложенное имение, завоевал прочную привязанность и уважение детей, Павлика и Санечки, мать которых в конце концов согласилась принять его предложение, не любя его, только из чувства признательности, оценив его преданность и бескорыстие. Пройдя через два или три тяжелых психических заболевания, через аресты и сиденье в чрезвычайке в первые годы революции, Антон Дмитриевич превратился ко времени нашего переезда в Макарьев в чудесного старика с большой и нежной душою, сохранившего от прошлого только свою замечательную память и неиссякаемую эрудицию. Добродушно подтрунивая над собственным неумением пришить пуговицу или достать чугунок из печки, не опрокинув его, он был совершенно не приспособленным к жизни, но одним из тех немногих людей, которые самую эту жизнь, никакого, казалось бы, в ней участия не принимая, незаметно делают для всех окружающих более осмысленной и полной глубокого значения…
— Еж приехал… ежевич, — похохатывая и ласково глядя на Санечку, повторял он ее детское прозвище. — Тут без тебя у меня была «трудная жизнь», ежинька, — и, как бы выделяя кавычками отдельные слова, он вскидывал слезящиеся глаза, по-совиному стянутые в уголках книзу, — Люба каждую субботу баню топила и меня выпроваживала мыться. Табаком сорить «не приказывала». Овсяный кисель есть с молоком принуждала. (Ты можешь есть овсяный кисель с молоком, Сережа? По-моему, такая гадость). Я ей говорил, что Санечка приедет, я ей «обжалуюсь». А она отвечает: «Я сама вот ужо ей обжалуюсь, какой вы тут без нее были неслух». Так что я уж тороплюсь упредить, все свои обиды тебе выскажу, как она тут меня утесняла. Белье менять заставляла. А по воскресеньям все с утра приберет так, что я уж и двинуться не могу, чтобы не намусорить. (Ты любишь «мусорить», Сережа? Я, например, без этого просто жить не могу, и Люба, и Санечка знают, что не могу, и оказывают мне некоторое снисхождение). Приберет, пол «примоет» и сама исчезнет, а я один сижу и ларвов принимаю. Ты, верно, Сережа, не знаешь, кто такие ларвы [113]? Это больные крестьяне, которых Санечка с Диной гомеопатией пользуют, а вообще ларвы — это спиритический термин. Спириты считают, что есть такие второстепенные домашние духи.
Ларвы делятся у нас на два вида: «правские» и «неправские» — это уже не спиритическое, а Любушкино подразделение. Правские — которые приносят что-нибудь за лечение в благодарность: яйца или творог, а неправские — которые с пустыми руками ходят. Таких Люба не уважает. Тут как-то пришел без нее один ларв женского пола, которому «в подвздохи вступило». Ну я дал ему, Санечка, у тебя из коробочки каких-то лепешек, потом, когда он ушел, я только догадался посмотреть, что же на коробочке написано: оказалось, мозольный пластырь.
Я перепугался, думаю, пропадет ларв и мне достанется. И вдруг через неделю (я у обедни был), ларв пришел благодарить — с Любой они тут объяснились — спасибо, говорит, барину, очень, говорит, помогло. И даже пять штук яиц принес. Ларв оказался «правский». Так что я решил теперь всех лечить из этой коробочки, от любой болезни, если у меня такие способности в медицине…
Разумеется, весь анекдот был тут же им придуман, но рассказан с таким серьезным простодушием, что Санечка и Дина сперва почти поверили и то с ужасом переглядывались между собой, то смотрели на старика, пока вызванная голова Любы, вдвинувшаяся в комнату через занавеску, не пояснила, что ларва барин действительно принимал и участливо обо всем расспрашивал «как толковый», но лекарств никаких не давал, а пяток яиц принес «вовсе другой ларв», которому еще Санечка делала примочки и давала какие-то капли.
Читать дальше