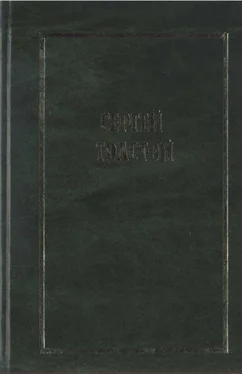Все это — совмещение очень уже определенного и, вместе, очень неокончательного, в нем заложено многое и нет почти ничего. И все-таки, все-таки… первое сердцебиение любви по-своему всегда значительно.
Бережно, без нажимов, едва-едва касаясь чистого листа, карандаш намечает какие-то почти символические штрихи и небрежные пересечения линий. Они кажутся случайными и заметны только с очень близкого расстояния, но они уже не сотрутся, а придет время — проступят с неожиданной резкостью и подчинят себе композицию всего изображения, определяя его характер и ритм в чем-то, может быть, наиболее существенном. Поэтому я не мог не уделить воспроизведению этого случая того места, которое казалось мне необходимым.
У Татариновых угощали традиционным винегретом. Он был, как и всегда, холодный, очень холодный и довольно невкусный. По-видимому, в их распоряжении был недурной ледник, где обычно хранился запас таких винегретов, ну, а постное масло, как и всякие другие жиры животного или растительного происхождения, были, как и у других, всегда в дефиците. Зато винегреты подавались на тарелках старинного сервиза — с гербами Всеволожских и княжескими коронами. Тарелки, такие хрупкие с виду, пережили титул, утраченный еще задолго до революции какими-то предками Софьи Владимировны, не захотевшими или не могущими принять затраты, связанные с его подтверждением в департаменте герольдии или других подобных местах. Они (тарелки) пережили и самую фамилию, перейдя в качестве приданого за Софьей Владимировной в новую семью; они пережили, наконец, и революцию, когда мебель новоторжского имения Татариновых Таложни тронулась со своих мест, чтобы занять комнаты городского музея Торжка, а сыграв в течение нескольких лет роль «народного достояния», бесследно и незаметно исчезла навсегда. Стойкие перед наступившими годами и ударами судьбы, тарелки уже сроднились с однообразием винегретов, тем более что за столом, кроме матери, сидели три уже взрослые дочери, которые могли наглядно демонстрировать чудодейственные свойства этого блюда. Молодые, розоволицые, скорее, массивные по своему телосложению и этим напоминавшие мать, они, в сущности, мало походили друг на друга и лицами, и склонностями. Но, запечатленные общим семейным сходством, проявлявшимся то в речевой интонации, то в каком-нибудь укоренившемся в семье словечке, то в улыбке, неизменно обаятельной и мгновенно преображавшей все лицо одним и тем же у всех троих выражением, на минуту все три могли почесться близнецами. В этом белом двухэтажном доме, выходившем окнами на зеленый тенистый бульвар возле городского собора, я почувствовал себя хорошо с первого же раза. Особенно быстро освоился я тогда — три года назад — с самой Софьей Владимировной. Помню, тогда тоже было лето и за окном шумела листва цветущих лип. Сейчас липы уже отцвели, приближается осень, и я тоскливо сижу перед своей тарелкой, глядя на неумеренную порцию винегрета, щедро положенного мне сухонькой старушкой Марией Павловной, ведающей здесь хозяйством. Еда решительно не идет мне в горло. Вера чувствует себя не лучше. Она пришла, чтобы объясниться с Софьей Владимировной. Объяснение по поводу меня. Я, собственно, захвачен ею «на всякий случай», чтобы, «если понадобится», извиниться и «раскаяться». А в чем я должен каяться — толком неизвестно ни мне, ни Вере: «Не знаю я, что там у вас получилось, но не станет же Софья Владимировна говорить зря. Ты сам должен понять, что, может быть, ты этого и не думаешь, но у тебя действительно бывает такой вид… И потом, даже если она ошибается, разве, чтобы не потерять человека, который столько уделял тебе внимания, так много с тобой возился, столько тебе дал… разве не следует спрятать в карман свое самолюбие и сказать все начистоту, как есть, что ты понимаешь, ценишь, сказать… Если есть недоразумение, так его разъяснить надо. А если есть вина — то признать ее, хотя бы самому себе она и казалась незначительной…» Вера старалась даже придумать и подсказать мне слова, которые следовало говорить, но что толку… Если бы речь шла о ком-нибудь другом, я взбунтовался бы, наверное, и никаких извинений, никаких раскаяний, а тут я и сам был в отчаянии и готов на все, так что и слова, пожалуй, нашлись бы, если бы только я мог отдать себе отчет в том, что же, собственно, приключилось.
Средняя из дочерей, Наташа, самая симпатичная мне, о чем-то весело рассказывает, и все сидят, сидят за столом. А Софьи Владимировны, нет: в это время она не ест со всеми, кажется, соблюдает диету. И о причине нашего прихода никто ни слова… Притворяются?.. Или действительно не знают? А может быть, слишком мало им интересно то главное, ради чего мы сегодня здесь.
Читать дальше