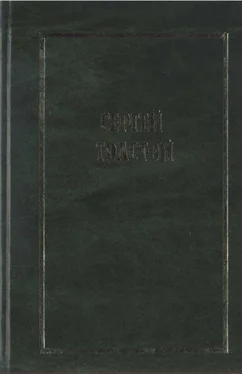Как ни хорошо было в сумерках, вернувшись из церкви, сидеть вдвоем с сестрой в комнате, освещаемой лишь одной лампадой, но и смех, и шутки, и встречи с немногочисленными товарищами, настроенными во много раз легкомысленнее меня, влияли на общую окраску дней, постепенно разрушая строгое умонастроение, характерное для первой недели. Солнце пригревало все сильнее, река темнела и вздувалась, с пригорков побежали говорливые ручейки; они торопливо заполняли колеи и канавки, пробурливая себе пути к реке. Зима еще досылала последние морозы. Внезапно набегавшие откуда-то тучи омрачали солнце, снег начинал валить, словно зимой, а наутро снова продолжалось дружное повсеместное таяние.
На фоне этой перемежающейся лихорадки природы и глубоких впечатлений от торжественной мрачности великопостных служб первый детский роман, о котором я упоминал выше, получал свое развитие, ненадолго обманчиво затухая, чтобы затем опять властно вторгаться в мою жизнь, присваивая себе в ней какое-то очень определенное и не слишком малое место. Благодаря этому роману, в котором мне досталась, будем справедливы, крайне незавидная роль, я, несмотря на полную невинность возникавших в связи с ним отношений, впервые познал безмерное коварство женщины и после, не найдя для него никаких логических обоснований, смело распространил его на всех женщин вообще, с удовлетворением находя в читаемой литературе бесчисленные факты, подтверждавшие это коварство.
Итак, она звалась Татьяной. Все в Торжке хорошо ее знали и, не уставая, восхищались ее наружностью и манерами, но никто не мог сказать о ней ничего большего. Умна ли она? Добра ли? Добродетельна или испорчена? Хорошее, может быть, даже слишком хорошее, воспитание раз и навсегда снимало все эти вопросы. Да и кому пришло бы в голову всерьез задавать их относительно девочки всего одним или двумя годами старше меня? Единственная дочь местной помещицы, чье английское отчество невольно уводило воображение к королям из романов Вальтера Скотта, а фамилия была достаточно памятна по известному роману Тургенева, девочка, несмотря на общую бедность того времени, всегда была не банально, а с каким-то смелым вкусом одета в хорошо сшитые платьица из какой-нибудь обивочной ткани, вроде старинного репса. Такой репс, например, цвета бордо, с крупными серо-зелеными листьями, оживленный там и здесь золотистыми прожилками, выглядел на ее стройной фигурке богатой парчой. Фарфоровой нежности кожа, с приметным, но отнюдь ее не портившим (по крайней мере пока) крохотным коричневым пятнышком на кончике носа, аккуратно выточенного, розовые раковинки ушек — все достойно было кисти какого-нибудь крупного портретиста. Однако таким портретистом скорее мог быть Гейнсборо или Лоуренс, чем Латур или Грез. Безукоризненная вежливость, неизменно скромный вид, ровный характер и постоянная безмятежная уравновешенность наделяли ее всем, необходимым для примерной девочки из хорошей семьи. Ее мать часто встречалась с тетей Катей: иногда — за карточным столом, иногда — по случаю очередных вечерних визитов с чаепитием друг у друга. Она была столь же безупречна, как и ее дочь. Искривленная каким-то нервным тиком улыбка, создавая резкий угол на ее подбородке, не могла все ж таки нарушить несравнимой мягкости ее взгляда, голоса и почти бескостных кистей рук с длинными узкими ладонями. Никто не имел причин не уважать ее еще больше, чем других дам, о которых можно было что-нибудь сказать, хотя бы за то, что, в сущности, сказать о ней было решительно нечего. Частые встречи с ними в предшествовавшую зиму укрепили наше знакомство. Получая чуть ли не ежедневно, а порой и по два раза на дню крохотные записочки, вроде «Приходите вечером, буду дома. Т.» или «Приходите вечером, буду ждать. Т.» и «Если можно, пришлите с мамой книжку, которую вы обещали. Вечером жду. Т.», я не чувствовал себя польщенным, так как в этих записках нельзя было усматривать знак предпочтения кому-то. Я знал, что записки точно такого же содержания получали еще двое-трое моих товарищей, как и я, влюбленных в Таню. К тому же, записки эти обычно доходили ко мне, переданные или ее матерью, не находившей в этом ничего особенного, а тем более недопустимого, или моей сестрой, крайне неодобрительно относившейся к нашей переписке. По ее понятиям, девушка вряд ли должна была писать о чем-либо, даже и жениху, без особых, смягчающих такую смелость, обстоятельств, а в наших записках, посылаемых без всякого повода и необходимости, когда мы и так видимся чуть ли не ежедневно, она усматривала усвояемый нами при совершенно напрасном попустительстве старших «стиль горничных». Однако же прекратить это не решалась, чтобы не придавать слишком большого значения пустому явлению, тем более что и по возрасту, и по жизненному опыту не считала себя вправе на инициативу, которая могла показаться невежливым намеком Таниной матери, выражающим неодобрение ее стилю воспитания.
Читать дальше