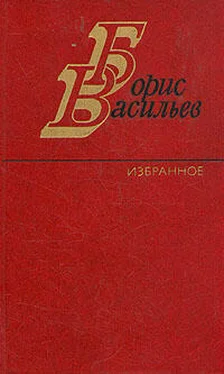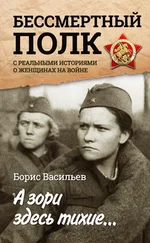Мнение, будто писатель наделен сверхъестественной наблюдательностью, распространено весьма широко, но мне оно представляется величайшим заблуждением. Правда, и здесь я, естественно, исхожу из личного опыта, понимаю, что он далеко не абсолютен, и все же, все же… Во-первых, писатель — не натуралист, а мир людской — не муравейник, а во-вторых, наблюдательность подразумевает конкретное мышление, а писатель могуч мышлением образно-ассоциативным. Пишу эти всем известные истины только для того, чтобы признать, что писатель — конечно же! — наблюдает. Наблюдает хотя и неосознанно, но придирчиво, днем и ночью вслушиваясь и всматриваясь в самого себя. И всех героев своих писатель, как правило, лепит по собственному образу и подобию, выламывая собственные ребра не только для Ев, но и для Адамов.
Отец всю жизнь носил военную форму. Он вышел в отставку до того, как ввели брюки навыпуск, всю службу проходил в гимнастерке, галифе да сапогах, а когда надел подаренный гражданский костюм, то тут же и упал, чуть не вывихнув ногу в лодыжке. Это настолько вывело его из свойственного ему душевного равновесия, что на повторный эксперимент с ботинками он так и не решился, до самой смерти своей не изменив родной для него русской офицерской форме. И в гроб лег в ней.
Он был небольшого роста, а я удался в мамину породу и в 6-м классе догнал отца, так сказать, в длину. И тут же надел его старую гимнастерку, брюки, шинель и сапоги. Гимнастерка и шинель свисали с плеч, сапоги чуть хлюпали на ногах, но рос я быстро, подгоняя себя под форму, которую снял лишь в 1954 году. По моему примеру военную форму надел и мой друг Володя Подворчаный; вечерами мы любили прогуливаться в районе военного училища, потому что курсанты в сумраке отдавали нам честь, а мы очень радовались. В школе меня прозвали Солдатом, а когда я получил направление в академию, отец уверовал, что я и в самом деле солдат, что это — моя судьба и что служить мне всю жизнь до законной отставки. Да и сам я тогда верил в это, тем более что служба моя по окончании академии оказалась уникальной: я работал испытателем колесных и гусеничных машин. И отец очень радовался, старомодно полагая это карьерой, втайне гордился сыном с высшим военным образованием в двадцать три года и ведать не ведал, какую свинью ему подложит этот преуспевающий инженер-капитан. Впрочем, я тоже не ведал: все произошло как бы само собой.
После войны наша армия переживала естественный процесс смены офицерского состава. На места командиров, имевших богатейший боевой опыт, но не обладавших специальным образова-нием (как правило, училище военного времени), начали приходить выпускники академий, не имеющие полновесного боевого опыта, но обладающие полновесными академическими дипломами. Таких образованных офицеров было немного, приходили они в части по одному, по два, оказываясь белыми воронами в среде, спаянной фронтовой дружбой, общей опасностью и общей судьбой.
И тогда я написал пьесу, назвал ее «Танкисты» и послал в ЦТСА. По ведомственной принадлежности. Это было в апреле, а к маю я получил телеграмму от заведующего литератур-ной частью Антона Дмитриевича Сегеди: «ПРИЕЗЖАЙТЕ НЕМЕДЛЕННО». Я выпросил у начальства два дня и приехал в Москву. 3 мая меня принял Алексей Дмитриевич Попов — руководитель Центрального театра Советской Армии.
Мне казалось — да и сейчас кажется, — что я просидел весь день в тесном кабинетике на втором этаже. Я был так взволнован, что напрочь, начисто забыл этот столь знаменательный для меня разговор; я поддакивал, радостно соглашался, что-то бессвязно записывал, подавленный жаром, импровизацией, стремительностью и напором. Меня много раз просили написать об этой встрече для книги об А. Д. Попове, в юбилейный сборник, но я всегда отказывался, а на меня обижались, не представляя, что я не хочу ничего сочинять, а что было на самом деле — не помню. Ничего не помню, кроме одной фразы:
— Вы написали пьесу из зрительного зала, а надо писать — со сцены. Но вы ничего не смыслите в театре, а потому извольте ходить к нам каждый день. На репетиции, на спектакли, на читки, просто так. Глядишь, тогда и пьеса получится.
А еще помню, как он метался по крохотному кабинету, объясняя, что я написал. Он играл все роли, изредка заглядывая в мою рукопись, исчерканную его красным карандашом: теперь она хранится в музее театра. И втолковывал мне, что такое роль , а я так ничего и не запомнил.
Домой я вернулся, ощущая себя драматургом и невероятно важничая. И сразу же подал рапорт с просьбой о демобилизации «в связи с желанием заняться литературным трудом». Не стану описывать всех мытарств, вызовов в генеральские кабинеты, слез матери и хмурых взглядов отца. В конце концов я добился своего, и в сентябре 1954-го получил полную возможность «заняться литературным трудом»…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу