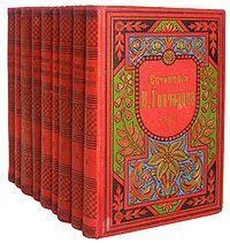— После, после, Вера, ради бога! Теперь не говори со мной — думай что-нибудь про себя. Меня здесь нет…
Вера пробовала опять заговорить, но он уже не слыхал и только торопливо подмалевывал лицо.
Вскоре она погрузилась — не в печаль, не в беспокойство о письмах и о том, придет ли Марк, что сделает бабушка, — а в какой-то хаос смутных чувств, воспоминаний, напрасно стараясь сосредоточить мысли на одном чувстве, на одном моменте.
Она куталась в плед, чтоб согреться, и взглядывала по временам на Райского, почти не замечая, что он делает, и все задумывалась, задумывалась, и казалось, будто в глазах ее отражалось течение всей ее молодой, но уже глубоко взволнованной и еще не успокоенной жизни. Думы, скорбь, вопросы и ответы из жизни, жажда покоя, тайные муки и робкое ожидание будущего, — все мелькало во взгляде.
А Райский, молча, сосредоточенно, бледный от артистического раздражения, работал над ее глазами, по временам взглядывая на Веру, или глядел мысленно в воспоминание о первой встрече своей с нею и о тогдашнем страстном впечатлении. В комнате была могильная тишина.
Вдруг он остановился, стараясь уловить и определить тайну ее задумчивого, ни на что не смотревшего, но глубокого, как бездна, говорящего взгляда.
Он касался кистью зрачка на полотне, думал поймать правду — и ловил правду чувства, а там, в живом взгляде Веры, сквозит еще что-то, какая-то спящая сила. Он клал другую краску, делал тень — и как ни бился — но у него выходили ее глаза и не выходило ее взгляда.
Напрасно он звал на помощь две волшебные учительские точки, те две искры, которыми вдруг засветились глаза Софьи под его кистью.
— Нет, здесь точек мало! — сказал он после новых усилий передать этот взгляд.
Он задумался, мешал краски, отходил от портрета, смотрел опять.
— Надо подождать! — решил он и начал подмалевывать щеки, нос, волосы.
Поработав с полчаса, он принялся опять за глаза.
— Еще раз… последний! — сказал он, — и если не удастся — не стану: нельзя!
— Теперь, Вера, погляди минут пять сюда, вот на эту точку, — обратился к ней Райский, указывая, куда глядеть, и сам поглядел на нее…
Она спала. Он замер в молчании и смотрел на нее, боясь дохнуть.
— О, какая красота! — шептал он в умилении. — Она кстати заснула. Да, это была дерзость рисовать ее взгляд, в котором улеглась вся ее драма и роман. Здесь сам Грез положил бы кисть.
Он нарисовал глаза закрытыми, глядя на нее и наслаждаясь живым образом спящего покоя мысли, чувства и красоты.
Потом, положив палитру и кисть, тихо наклонился к ней, еще тише коснулся губами ее бледной руки и неслышными шагами вышел из комнаты.
На другой день в полдень Вера, услыхав шум лошадиных копыт в воротах, взглянула в окно, и глаза у ней на минуту блеснули удовольствием, увидев рослую и стройную фигуру Тушина, верхом на вороном коне, въехавшего во двор.
Вера машинально оправилась перед зеркалом, со вздохом глядела на себя и думала: «Что брат Борис нашел списывать во мне!»
Она сошла вниз, прошла все комнаты и взялась за ручку двери из залы в переднюю. А с той стороны Тушин взялся за ту же ручку. Они отворили дверь, столкнулись и улыбнулись друг другу.
— Я сверху увидала вас и пошла навстречу… Вы здоровы? — вдруг спросила она, взглянув на его пристально.
— Что мне делается! — конфузливо сказал он, ворочая лицо в сторону, чтоб не дать заметить ей перемены в себе. — А вы?
— Ничего, так. Была больна, чуть не слегла. Теперь прошло… Где бабушка? — обратилась она к Василисе.
Та сказала, что барыня после чаю ушла куда-то, взяв с собой Савелья.
Вера пригласила Тушина к себе наверх.
Они, сидя на концах дивана, молчали, глядя украдкой друг на друга.
«Бледен, — думала она, — похудел; оскорбленное чувство, обманутые надежды гнетут его…»
Тушин был точно непокоен, но не столько от «оскорбленных чувств», сколько от заботы о том, что было с нею после: кончена ли ее драма, или нет?
Вопрос о собственном беспокойстве, об «оскорбленном чувстве и обманутых надеждах» в первые дни ломал его, и, чтобы вынести эту ломку, нужна была медвежья крепость его организма и вся данная ему и сбереженная им сила души. И он вынес борьбу благодаря этой силе, благодаря своей прямой, чистой натуре, чуждой зависти, злости, мелкого самолюбия, — всех этих стихий, из которых слагаются дурные страсти.
Он верил в непогрешимость Веры, и эта вера, которою держалась его чистая, глубоко нравственная страсть к ней, да прелесть ее обаятельной красоты и доверие к ее уму, сердечной честности — заглушали животный эгоизм страсти и спасали его не только от отчаяния в горе, но и от охлаждения к Вере.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу