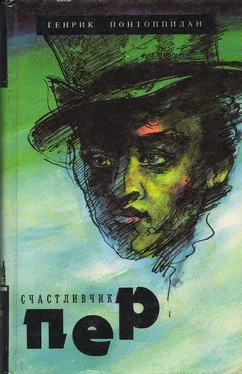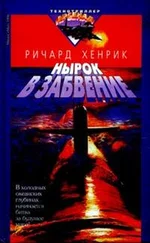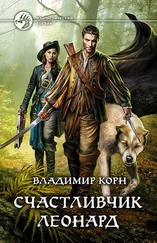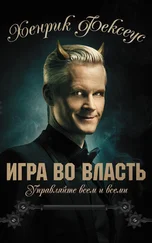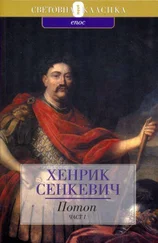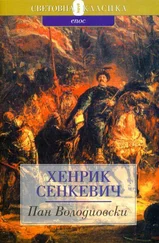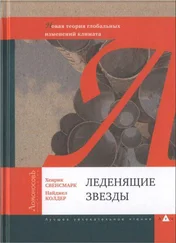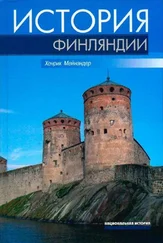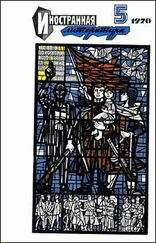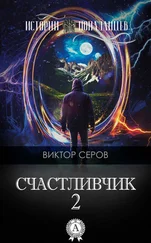Занятия математикой и естествознанием способствовали выработке у Пера объективного взгляда на природу. Но последовательным и сознательным атеистом он всё же не стал. Со времени вступления в брак с Ингер, дочерью пастора Бломберга, его сознание как бы раздвоилось. Внешне все чаще проявлялись в нём черты, свойственные Сидениусам. Он начинает даже цепляться за веру, как за якорь спасения и источник «духовного возрождения», наивно считая, что величие человека заключено в страдании. Гораздо более сложным — и это очень важно — был процесс его внутренней эволюции. До конца жизни в нём сохранится протест против религиозных догм. Он не останавливается и перед открытым признанием своего безбожия, понимая, что это грозит ему разрывом с женой и утратой семьи. Показательно, что завещание Пера было составлено в пользу «свободной от религии школы Якобы Саломон».
Падение Пера обусловлено, однако, не только его размолвкой с Якобой и отказом от многообещающего брака с ней. Трагичность его образу придаёт то обстоятельство, что он приходит к выводу о ложности избранного им ранее пути, распознаёт преступность капиталистических хищников, на которых делал свою ставку. Привыкший действовать смело, идти прямо «к осуществлению своей воли через Рубиконсомнений», он отказывается от таких приемов, как ложь и лицемерие, от закулисной борьбы против своего конкурента, инженера Стейнера, который в конечном счёте способствовал его падению.
Герой Понтоппидана сохраняет критическое отношение и к целому ряду других уродливых порождений капиталистической системы — таких, например, как национализм, унижение человеческой личности (проявляющихся нередко в форме антисемитизма), война и жестокая конкуренция во имя обогащения. Однако автор романа отнюдь не отождествляет своей позиции в этих вопросах с суждениями Пера.
Понтоппидан бережно руководит им, тонко и вовремя подмечает его промахи, нередко с юмором говорит о его заблуждениях. Пер часто действует в одиночку, на свой страх и риск, но никогда его образ не предстаёт изолированным от окружающего, от жизни. Временами он инстинктивно тянется к людям науки и искусства, казавшимся ему самобытными по мысли и отважными в делах. В больном поэте Эневольдсене, авторе «маленьких шедевров с тончайшей резьбой», он видит в чём-то родственную себе одинокую натуру. Подлинное же изумление и Даже зависть вызывали у него люди активного действия. К таковым он относил молодого живописца Йоргена Халлагера, «бунтаря и анархиста», а также журналиста и комедиографа Реебаля, называвшего себя «последним эллином» и стремившегося «преобразить мир» в духе идеалов античности.
Вопрос о путях развития искусства нередко приобретает в романе и самостоятельное значение, независимо от образа Пера. В этих случаях Понтоппидан как бы берёт слово от себя, высказывает собственные эстетические суждения. Центральное место среди деятелей национальной культуры и литературы отведено в романе журналисту доктору Натану. В образе Натана, по-видимому, изображён пользовавшийся шумным успехом в Дании и Европе Георг Брандес. В романе он представлен как потрудившийся для будущего Дании и своей ораторской и писательской деятельностью заложивший основу для духовного подъёма». И всё же Понтоппидан был далёк от безоговорочного восхваления деятеля такого типа. Он пытается объяснить характер противоречий литератора, «осыпанного самыми пышными почестями и подвергающегося ожесточённым нападкам». Пропагандист-популяризатор, воспитанный в традициях европейского свободомыслия, Натан был кумиром молодёжи, отвергавшей туманную философию и мистицизм Грундтвига и Кьеркегора. Публицист, «искрящийся бурной любовью к жизни», Натан, по мысли Понтоппидана, «явление совершенно необычайное для такой затхлой, крестьянской страны, как Дания». Вместе с тем писатель не приемлет «бесцеремонную бойкость» его речи, слишком категоричную защиту принципов индивидуализма.
В романе поставлены также важные вопросы о месте искусства в жизни, о возможностях творческой личности, о трагической зависимости художника от денежного мешка.
Нельзя говорить об одинаковом художественном уровне всех частей романа или единстве его стиля. Наиболее сильными, безусловно, являются первые его главы, полные огромной жизненной правды, повествующие о человеческих страданиях, героическом «хождении по мукам». Заключительная часть выдержана преимущественно в стиле камерного повествования, утрачивающего масштабы предыдущих картин и обобщений. В ней тщательно выписываются мельчайшие нюансы переживаний героя, уделяется внимание чуть ли не каждому дню, почти каждому часу его жизни.
Читать дальше