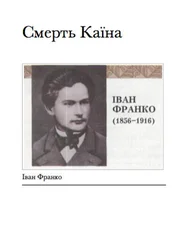Подобные крики подымались обычно по вечерам, но часто и днем.
И вот случись на беду, что однажды с трех часов до пяти стоял на-часах такой вот несчастный рекрут. С самого начала он сказал грубость кому-то из арестантов, смотревшему в окно. Подали знак, чтобы устроить «собаке» кошачий концерт. На разных концах арестантского здания, с разных этажей, из десятков окон, сразу поднялся крик, вой, свист и резкое мяуканье. Рекрут тоже кричал, бегал под всеми окнами, но нигде не мог никого заметить. Доведенный до ярости, он наконец замолчал и остановился, чтобы передохнуть. В скором времени затих и «кошачий концерт». Казалось, наступило полное успокоение. В камере уже начинало смеркаться. Иоська устроил себе сиденье и с книжкой в руках так и припал к окну. Но едва прочитал он себе под нос несколько слов» как часовой, заметив его, подбежал и остановился напротив окна.
— Марш, воришка, с окна! — взвизгнул он, обращаясь к Иоське.
Иоська сперва даже не услыхал окрика — так был он занят рассказом о цапле и рыбе, который читал в это время.
— Марш с окна! — еще громче закричал часовой.
— Да чего ты от меня хочешь? — ответил Иоська, — Я ведь тебе не мешаю. Видишь, читаю. В камере уже не видно, вот я и вылез немножко на свет.
— Отойди, не то стрелять буду! — рявкнул часовой, и не успел Иоська слезть со своего сиденья, как грянул ружейный выстрел.
— Ой! — крикнул Иоська и, как сноп, повалился с сиденья на койку, стоявшую под окном.
Ноги у него судорожно задергались, а руки, в которых он держал книжку, были прижаты к груди. С листов книжки лилась кровь. Пуля попала прямо в грудь.
— Что с тобой? Куда тебе попало? — вскрикнули мы оба, бросаясь к Иоське.
Но он ничего не отвечал, только поблескивали, как два разгоревшихся уголька, его черные глаза, как-то страшно выделяясь на лице, бледном, точно у трупа.
Во дворе под нашим окном и в коридоре у нашей двери поднялся сразу же шум. Там выбежала воинская стража на выстрел, а здесь надзиратель со сторожами разыскивали камеру, в которую стреляли. Вбежали к нам.
— Ага, это здесь! — закричали они, увидев лежащего Иоську. — Ну, что, вор, досталось тебе на орехи?
Иоська еще бился и тихо стонал, все время прижимая к груди обеими руками книжку, словно хотел закрыть ею смертельную рану.
— Что он делал? — спросил меня надзиратель.
— Да я… только к свету…
Ему хотелось еще что-то сказать, но у него нехва-тило дыхания. Последним движением он оторвал руки от груди и показал надзирателю окровавленный букварь — Он читал у окна, — пояснил я надзирателю.
Как раз в это самое время явился из суда курьер с распоряжением — он разыскивал надзирателя.
— Пан надзиратель, — спросил он из коридора, — где тут сидит Иоська Штерн? Тут от суда распоряжение, чтоб его отпустили на свободу.
А Иоська был уже свободен за минуту до этого.


Сто метров под землей, в глубине десятиметровой штольни, работает в духоте и нефтяных испарениях рабочий [29] Рабочий добывает горний воск, встречающийся обычно в районах месторождений нефти, в частности в Бориславе.
. Он раз за разом долбит кайлом вязкую породу и отрывает от нее куски глины. Но порода тверда, скупа и только по маленькому кусочку позволяет отрывать части своего тела. Она глухо гудит и стонет под ударами кирки, будто плачет, будто грозит; вся она пропитана вонючим потом, но не поддается, упорно держит свои скрытые таинственные сокровища. Рабочий, здоровенный парубок, недавно прибывший из горного села в Борислав на работу, начинает злиться.
— Г-ге! — приговаривает он, ударяя изо всех сил в углубленье, куда он долбил уже трижды, но не мог отбить и куска породы. — Э, чертяка! До какой же ты поры будешь упираться? Отпускай!
И он изо всех сил нажал кайлом, чтобы отвалить глыбу. Глыба наконец подалась, он взял ее обеими руками и кинул в бадью.
— Туда тебя, к псам! Выходи на свет! Солнца отведай! — приговаривал он. — Го-го, голубушка! Я не шучу! Со мной нечего бахвалиться, я и не с такой могу справиться! Ты не знаешь, что значит семьсот овец. Это не то что какой-нибудь там один или два куска, а я и с ними умел управиться.
И он берет за дужку бадью, наполненную породой, несет ее к стволу шахты, подвешивает к канату и звонит, чтоб тащили, а сам с порожней бадьей возвращается назад в штольню и снова принимается долбить землю. Мысли его носятся за овцами по горным полонинам, и он, чтобы разбить одиночество и темноту, любуется воображаемыми картинами, говорит о них и с глиной, и с кайлом, и с порожней бадьей, и с топором — больше нет у него товарищей здесь, в этой глубокой бездне.
Читать дальше